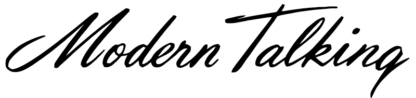
Марина Лошак

МОНТАЖ:
АНТОН СТАРОДУБЦЕВ
РЕЖИССЕР:
Женя Онегина
ПРОДЮСЕР:
Александра Рожкова
ОПЕРАТОР:
Илья Комаров
ВИЗАЖИСТ:
Юлия Точилова
ЗВУКОРЕЖИССЕР:
Михаил Политковский
Интервью:
Елена Баканова
Директор Пушкинского музея рассказала нам, зачем перестроила свой кабинет и открыла его для публики, почему оригинал искусства невозможно ничем заменить и почему сейчас стало так важно открывать все музейные двери.
Хотела начать с небольшой личной истории отношений с Пушкинским музеем. На втором курсе я писала курсовую о Пиранези, которого много в запасниках Пушкинского. Мне нужно было работать с оригиналами, и я попробовала проникнуть в музей. Старшие коллеги-искусствоведы посмеялись надо мной и сказали…

Угадаю: забудь об этом?
Да, сказали: забудь об этом. Месяца два будешь только получать разрешение, и не факт, что пустят и дадут работать. Пушкинский всегда был бастионом с тремя рвами обороны, а его директор парил в облаках недосягаемости. А сейчас я сижу с вами в кабинете директора, который открыт для публики. Новая политика музея — открытость, стремление показать бэкстейдж очень обаятельная.
Все изменилось не только в Пушкинском музее. Пушкинский изменился вместе с миром музеев. Просто невозможно не меняться. Даже если ты хочешь остаться консервативным, ради развития музея ты должен меняться. Музеи не могут быть закрытыми. Они не могут быть музеями, если они закрыты, особенно такого типа, как наш. Мы универсальный музей, который всех принимает в себя. Поэтому открываются все музейные двери. И эти двери показывают новые лица — лица людей, а не искусствоведов. Человеческое становится важнее всего остального, особенно сегодня. Птичий искусствоведческий язык меняется на нормальный человеческий, выразительный и эмоциональный рассказ. Человеческое лицо снимает маску, придуманную специально для того, чтобы показать, что музей — это храм.
Но даже сейчас во всех самых открытых музеях одна дверь всегда закрыта — это дверь директора. И если ты пришел в Tate Modern, MoMA, V&A, я уже не говорю про Лувр или Прадо, там эти двери закрыты наглухо. За этой дверью всегда сидит ужасный Гудвин, который вершит что-то. И никто не подозревает, что это человек. Поэтому я пошла на этот шаг, чтобы открыть последнюю дверь, самую сакральную в музее — дверь кабинета директора. Для себя я решила, что нужно это сделать, нужно попытаться показать, что директор — это не только бюрократическая фигура, это не только чиновник. Это может быть и художник, и человек, который мыслит визионерски. Это шире, чем просто должность, тем более что в нашем музее особый опыт. Моя предшественница Ирина Александровна Антонова — великий музейный директор, чье лицо всегда ассоциировалось с лицом музея. Поэтому я решила, что это должна быть инсталляция. И первая тема в ней, для меня самой самая важная, — показать, что директор музея и человек, который временно является директором, все-таки разные сущности. И одна без другой невозможна. Я решила, что каждые три месяца буду пытаться выступать не просто как директор, а как куратор, который дает возможность посетителям Пушкинского узнать нечто большее про директора и про человека. Я обратилась к [архитектору] Саше Бродскому. Он потрясающий художник и товарищ, с которым мы понимаем друг друга с полуслова. За одну неделю мы все сделали. Мы превратили красивый чиновничий кабинет с панелями и картинами бельгийских мастеров в инсталляцию.
О чем она нам рассказывает?
Появилось двухчастное пространство, благо семь метров потолка позволяют. Внизу у нас музей, каким мы видим или воображаем его в детстве, такая лавка древностей, диксоновское пространство, наполненное волшебными, странными предметами. Оно очень тесное, поскольку музей заполняет человека, директора настолько, что практически не остается места вне его. Поэтому нам нужно было показать тесноту, полумрак, волшебство этого мира и вместе с тем его плотность. Таким образом появился первый этаж этой инсталляции, который является музеем в детском, не академическом понимании этого слова. Там египетские коллекции, мумии животных, моя коллекция китайских шапочек и туфелек XIX века, моя паранджа XIX века, Сашины рыбьи пузыри, которые он собирает всю жизнь, рядом с черепками из нашего музея. Это масса разных вещей, которые являются музеем, они взяты из моей, его и музейной коллекций. Там же стоит стол, который всегда стоял в кабинете. За ним мы работаем, там сидят два моих помощника, которые тоже являются частью этой инсталляции. И любой человек, который туда заходит, становится ее частью.

Дальше ты не сразу видишь, где лестница, ведущая наверх, ко мне, которая не директор. Когда ты поднимаешься наверх по этой белой лестнице, сразу попадаешь в пространство, в котором сидим мы с вами. Оно абсолютно пустое, это важно. Это такая «Алиса в Зазеркалье», такой сон. Это воздух, который заполняет человека, когда он возвращается к себе. Поэтому здесь всего лишь две вещи: мое платье, которое я ношу, и моя картинка, которая висит у меня в спальне, которую я каждое утро вижу, когда просыпаюсь. Люстра, которая здесь висела, так и осталась висеть, и она подчеркнула это ощущение сновидения.


Но это еще не все. Главное заключается в том, как работать в этой инсталляции, как в ней жить, поскольку это часть проекта. И тут важно, насколько виртуозно я буду готова к игре. А я очень готова к игре. И мне важно, чтобы люди, с которыми я работала, могли освободиться настолько, чтобы почувствовать, что игра — это не детское состояние. Это самое взрослое состояние и самое вечное. Мы продолжаем встречаться, разговаривать о разных вещах. Сначала они пытались обжить это состояние внутри себя. Потом, когда мы поднимаемся наверх, каждый исторгает тот самый вздох, которого ждали я, Саша и Надя [Корбут, соавтор проекта]. Вздох детский тоже, это очень важно. Наверху у меня стоит столик, Саша очень точно его выбрал. Он такой поживший, неотреставрированный столик из нашего хранения, но со следами былой породы. И такая же лампа. Тут всего два стула, потому что это пространство предназначено для разговоров с одним из моих коллег, но совершенно другого, ментального свойства. Не о том, о чем мы говорим внизу: о проблемах музея, как их разрешить. Здесь разговоры по душам, как говорили раньше в России. Таким образом, здесь очень правильная энергия присутствует, которая не уходит отсюда и накапливается.

Что касается нижнего уровня, то в конце каждого из проектов (он приблизительно три месяца длится) мы все перестроим, и будет новая инсталляция в конце мая. Я приглашаю директоров других музеев на один день стать директором Пушкинского. В течение дня такой директор проводит разные встречи с нашими коллекционерами, мы говорим о реставрации, решаем проблемы стройки, выставочных планов. То есть он реально становится мной.
Что для вас важнее: нарушать правила, ломать шаблон или пребывать в состоянии полудетской игры и не относиться слишком серьезно к себе?
Одно без другого совершенно невозможно, потому что нарушать правила не может быть задачей, это вообще не задача. Это называется словом «свобода». В себе нужно растить внутреннюю свободу. Не бояться лишиться чего-то, включая место. Делать то, что ты считаешь правильным. Включать весь свой запас иронии и чувства юмора, потому что, если в тебе его нет, ты вообще никто. Это все очень важно, без этого просто невозможно, иначе это очень грустная и печальная жизнь. Когда спрашивают, зачем все это нужно, есть эгоистический, совершенно юношеский ответ — ради того, чтобы быть счастливым. Конечно, я должна быть счастлива, потому что, если я не буду счастлива, здесь все завянут от тоски. То есть я прежде всего должна быть счастлива, тогда мне будет легко и интересно, тогда я могу позволить себе все, что я хочу. Многие мои коллеги были в ужасе. Все хранители, они же очень важные, понимают, что музей для «высокого», не понимая, что это самое высокое, что может быть. Поэтому я уговаривала, что это нужно сделать, что это будет любопытно, я вот такой crazy-директор, помогите мне. В целом все смирились, кто-то даже получает удовольствие от этого.

Как вы считаете, для чего музей? Для чего музей людям, для чего люди музею?
Я считаю, что музей — это инструмент. Что такое музей сам по себе? Музей — это пространство для диалога, контакта человека с искусством. Самое главное в музее именно это пространство, не сами вещи, а то, что возникает между ними. Искусство — это потрясающий инструмент. Человек вступает в какие-то отношения с искусством при помощи людей, которые работают в музее, их визионерства, представления о том, как помочь человеку в этот диалог вступить. То, что возникает между человеком и предметом искусства, условно, потому что искусство может быть очень разным. Это является самой главной целью существования музея. Потому что иначе что? Хранилище уже не цель, это какая-то цель, но не музей в нынешнем смысле этого слова.
То есть человек получает уникальный опыт, приходя в музей?
Он получает живой, эмоциональный опыт прежде всего. Он не может его получить просто потому, что он увидел даже прекрасного разрешения произведение искусства у себя на экране планшета или на огромном экране кинотеатра.

Подтверждаю как человек, который когда-то впервые увидел в Уффици Боттичелли и остолбенел от того, насколько это было прекрасно.
То же самое происходит с театром. Ты можешь видеть фантастически снятую постановку, но ты не ощущаешь живую вибрацию, цель которой — человека расшевелить. Если в тот момент, когда вот вы, например, пришли в Уффици, ученые сделают биохимический анализ крови, я уверена, он покажет, что состав крови изменился. В такие острые моменты человек меняется физически. Вот для чего эти впечатления и эмоции. Все сейчас опасаются будущего футуристического пространства, где все будет виртуально. Я, например, совершенно убеждена, что никто никого не заменит никогда.

Есть же синдром Стендаля, состояние аффекта, в котором оказывается впечатлительный человек в местах высокой концентрации искусства.
Очень важно не потерять впечатлительность. Между экраном и человеком холодность, дистанцированность, безопасность. Дистанция огромная, хотя вроде бы она маленькая. На самом деле она огромная. И конечно, это человека не тренирует, а, наоборот, размагничивает. Если ты не хочешь слушать сложную музыку — тебе сложнее ее понять, и ты чувствуешь, что тебе скучно. То же самое со всеми остальными вещами. Если ты не читаешь важных, сложных, серьезных книг, то тебе потом очень сложно через них пробраться. Должны быть навыки.
Я читала, что в рамках планов изменения концепции вы хотели бы показать бэкстейдж — хранение, реставрацию, все вынести на поверхность. Это так?
Да, все будет открыто. В будущем Музейном квартале, которым мы занимаемся сегодня, это одно из наших главных движений. Мы строим большое хранилище рядом с новым выставочным пространством и реставрационным. Весь музей будет открыт и доступен, за исключением тех фондов, которые нельзя показывать все время. Это бумага или ткани, которые не терпят постоянного присутствия света. Наша главная задача — сделать все открытым. И даже наши реставрационные хранилища будут открытой зоной, где можно будет видеть, как все происходит, и наши библиотеки. Там ни одной закрытой двери, все стекло.
А вы сразу ответили на предложение стать директором?
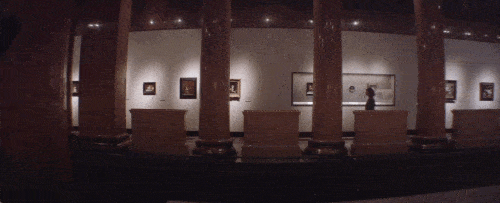
Нет, я подумала недельку.
Вы склонны отвечать на все вызовы, даже такие сложные?
На все не склонна. Я надеюсь, что все вызовы, которые будут в жизни, будут мне по плечу. Но не все же мне по плечу. Тут я тоже поразмышляла, потому что я приобрела больше несвободы, чем свободы. Для меня всегда это было очень существенно. Каждый мой новый шаг в жизни — это всегда было место абсолютно новое, где нужно начинать с нуля. Может быть, поэтому и получилось так с Пушкинским музеем, потому что впереди был Музейный квартал. Может быть, я бы и подумала, если бы его не было.
Музейная сфера в России — это была такая герметичная академическая среда, она предполагает академическую карьеру, но у вас ее не было. Как это предложение вообще стало возможным?
Она и сейчас такая же. Меня это удивляет. Я вообще совсем не традиционный директор. Не знаю, как-то так все совпало. Что-то не получалось, просто я правда из какого-то другого дома отдыха немножко. Тем не менее зачем-то это было нужно, и все более-менее получается.
О Лейденской коллекции
Когда я говорю об этой выставке, я всегда уточняю, что ее герой — коллекционер. Это феноменальная история. Все в ней кажется рождественской сказкой, потому что такого быть не может, что молодой человек вдруг в 42 года решил начать собирать искусство, которое он любит больше всего с детства. Лейденская школа, Рембрандт — его герой с 6 лет. В 6 лет пришел с родителями в Метрополитен в Нью-Йорке и тогда его полюбил. Потом в 8 лет попросил отвезти его в Амстердам, потому что знал, что Рембрандт в Rijksmuseum. Вырос, получил образование, у него их несколько, в том числе он историк философии. Он крупный предприниматель, миллиардер и очень широко образованный человек. До 42 лет он и не думал собирать эти вещи, потому что он себе представить не мог, что их можно собирать. Он был уверен, что они все находятся в музеях, пока Розенталь, бывший директор Royal Academy, не сказал ему, что он ошибается, это все можно так или иначе приобретать, и он решил попробовать. Его поддержала жена, им обоим было чуть больше 40. Томас и Дафна Каплан за 15 лет собрали невероятную коллекцию из 250 произведений искусства, которая по качеству соответствует уровню национальных музеев. За 12 лет купили 12 Рембрандтов, сейчас у них 13. Из них два рисунка, остальное живопись. Нашли даже одного Вермеера, единственного, который находится в частном собрании. Там есть все, включая художников, не относящихся к Лейденской школе. Коллекция очень последовательна, она говорит об учителях и учениках Рембрандта, о круге, который назывался Лейденской школой. Rijksmuseum сопровождает и консультирует его на протяжении всего коллекционирования. Директор музея Тако Диббитс приезжал сюда и называл его главным амбассадором голландского искусства.

Ни одной вещи у них нет дома и никогда не было. Потому что они приняли решение, что все вещи должны быть в культурном обороте. Еще до того, как они впервые опубликовали коллекцию в Лувре, они выступали как анонимы, а вещи уже путешествовали по 40 крупнейшим музеям мира, были на временном хранении в Лувре, Прадо и других музеях. Фамилия нигде не звучит, коллекция названа Лейденской, потому что владельцы считают, что художник важнее, чем коллекционер.





