Ноль за поведение
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
АНЯ ЗЕНЬКОВИЧ
В сентябре начнется новый концертный сезон, меломаны обновят абонементы и вспомнят дорогу к филармоническим залам. А пока концертная жизнь не вернулась в обычное русло, у нас есть время взглянуть на нее со стороны и задуматься над темами, которые обычно остаются на периферии внимания, скрываясь за яркими афишами и приподнятой атмосферой. Одна из таких тем — концертный этикет; поразмышлять о нем взялся композитор Антон Светличный.
Не издавать звуков. Не разговаривать, даже шепотом. Не ерзать, не скрипеть стульями, не шелестеть программками, не смеяться. Если кашель, терпеть. Если дети, остаться дома. Не привлекать к себе внимание. Проявлять сдержанность. Сидеть неподвижно. Не пританцовывать, не поддаваться чувству ритма, не махать руками. Извиняться, если идешь через занятые кресла. Ничего не есть и не пить. Не светить экраном. Не загораживать вид. Не опаздывать к началу. Не вздыхать от скуки. Не свистеть. Не кричать. Не аплодировать в неположенных местах. Выключить телефон.
Каждый, кто слушал классическую музыку в концертном зале, знает про многочисленные и не всегда очевидные нормы поведения, которые нужно там соблюдать. Само по себе это в порядке вещей: Йохан Хейзинга и Эрик Берн говорят нам, что любая социальная активность есть, по сути, игра, а у игры должны быть правила. Поэтому у всякого концерта есть свой этикет, даже у квартирника на вашей кухне. Вопрос в другом. Правила ведь нужны, чтобы в конечном счете всем было комфортно, не так ли?
Я сижу в зале и слушаю солиста — или струнный квартет, или оркестр. Заканчивается часть, и люди в зале начинают хлопать. Но часть была не последней, сочинение еще не завершено, аплодировать рано. Музыканты сидят на сцене в одеревенелых позах, стараясь держать нейтральные выражения лиц. Они, может, и рады бы встать и поклониться, но по какой-то причине этого не делают. Публика тушуется, хлопает вполсилы и быстро смолкает. Даже у стороннего наблюдателя такие моменты могут вызвать чувство неловкости. Происходит что-то явно неправильное — между публикой и артистами встает невидимая третья сила, которая гасит их (вполне искренние) порывы и превращает паузы между частями в двусторонний источник неврозов.
Даже новичок на оркестровых концертах, поразмыслив, быстро поймет, что со строгостью здешних запретов что-то не так. Ни атмосфера зала, ни жанр музыки не объясняют их полностью. В зале на следующий день пройдет джазовый вечер, и зрители (возможно, те же самые) будут радостно аплодировать не только каждому номеру, но и каждому инструментальному соло. В джазе так принято; почему тогда в концерте Чайковского мы не можем мгновенно выразить солисту восхищение за виртуозно сыгранный пассаж? Через неделю оркестр выступит на городской площади, а вечером его солисты сыграют Моцарта на банкете. Это будет та же самая Eine kleine Nachtmusik, что и всегда, но зрители будут ходить, разговаривать, закусывать и снимать музыкантов на телефон — и Моцарт не пострадает.
Происходит
что-то явно неправильное — между публикой и артистами встает невидимая третья сила, которая гасит их порывы

Мишель Фуко однажды заметил, что среди придуманных людьми запретов есть такие, которые нарушают все поголовно. Каждый из нас хоть раз переходил улицу на красный свет и входил в зал после третьего звонка. Несмотря на все увещевания и гневные взгляды, зрители опаздывают, их телефоны звонят, хлопки раздаются не вовремя, а на фоне нежнейшей лирики предательски шуршат обертки от конфет. В чем тогда суть запрета? Не в том, конечно, чтобы всех наказать. Цель другая: очертить дискурсивное поле, разметить знаками некую территорию и выразить с их помощью какие-то смыслы. Концертный этикет — это письмо в бутылке, послание от людей прошлых столетий. Кто они и что именно хотели нам сказать? Попробуем разобраться.
НЕПОХОЖИЙ НА ТЕБЯ. КОНЦЕРТ КАК ФОРМА ДОСУГА
Считается, что первые в истории публичные концерты провел скрипач Джон Банистер в 1672 году в Лондоне, а шесть лет спустя торговец углем Томас Бриттон организовал там же первые концерты по подписке, образец для всех последующих музыкальных абонементов. Во Франции и Италии концерты постепенно выделились из церковных служб. В Германии — выросли из любительских обществ, которые сначала собирались поиграть для себя, но постепенно начали выступать для публики; некоторые из таких обществ превратились в итоге в профессиональные оркестры, как, например, лейпцигский «Гевандхауз». К 1800 году концерт как особый вид развлечений прочно утвердился во всей Европе — вот только он был мало чем похож на то, что в наши дни происходит в филармониях вечерами по выходным.

Специальных залов для исполнения музыки не было. Концерты давали где придется: в парках, тавернах, гостиницах; в театрах, казино, увеселительных заведениях (от названия самого знаменитого из них, лондонского Vauxhall Gardens, происходит слово «вокзал»); в городских ратушах, складах и даже во дворцах. Главным принципом при составлении программы было разнообразие — жанров, стилей и составов. Каждое отделение открывала увертюра, за ней следовала оперная ария, затем сольная инструментальная пьеса, еще пара номеров по вкусу, в финале — хор из оперы или оратории. Поскольку в качестве «увертюры» могла выступать многочастная симфония (даже бетховенская, огромная по тогдашним меркам), а отделений бывало и больше двух, все действо могло длиться в несколько раз дольше, чем привычный нам современный концерт.

Разумеется, никто не пытался все это внимательно слушать. Музыка давала формальный повод собраться, но посетителям было пока, в общем, не до нее. Больше всего их интересовали они сами — свободные горожане, буржуа, неожиданно и, по сути, впервые столкнувшиеся лицом к лицу. XVIII век был веком распада сословного общества и смещением фокуса общественной жизни в города. Графские титулы продавались и покупались на рынках, дворцы открывали двери для посторонних, а на концерте можно было увидеть рядом князя, купца, ремесленника и монаха. Все смешивались в единую пеструю праздную толпу, нам знакомую по стадионным концертам, а тогда небывалую. Жители крупных городов с жадным интересом наблюдали друг за другом, обсуждая последние сплетни. В герцогских ложах во время трогательных пассажей обнимались и лили слезы умиления, публика с галерки реагировала на это ироническими аплодисментами. Новая городская цивилизация, развлекаясь, праздновала свое рождение.
Музыка давала формальный повод собраться, но посетителям было пока, в общем, не до нее
Развлекались, конечно, и попроще. Эдуард Фукс в «Истории нравов» пишет, что танцевальные вечера и парковые концерты галантного века были «местом публичного разврата» и «разновидностью рандеву для образованных сословий». Музыкальные академии Нанта и Труа в своих проспектах настаивали, чтобы уплатившие деньги за годичный абонемент приходили на концерты с дамами, которые смогут украсить собравшееся общество. «Гевандхауз» и вовсе изначально был местом, где мужчины выбирали себе дам из «женской комнаты» для дальнейшего проведения времени.
Наука о музыке любит искать в классических сочинениях логику и цельность. Но реальные слушатели не могли оценить эту цельность: звукозаписи не существовало, в концертах часто играли отдельные части, входить и выходить разрешалось в любое время, в залах было шумно, тихие звуки в этом шуме тонули, а недостаточно эффектные — улетали мимо ушей сразу в небытие. Композиторы соревновались в изобретении ярких деталей, звуковых приемов, которые хоть на время привлекут всеобщее внимание. На удачные находки зрители реагировали оживленно: вставали на цыпочки, чтобы рассмотреть играющих, отпускали комментарии и бурно выражали восторг. Моцарт в 1778 году писал отцу, что сочинил эпизод, «о котором я знал, что он должен понравиться, и действительно все слушатели были восхищены и много аплодировали». Первая часть одной из симфоний Гайдна в Лондоне целиком шла под крики «браво». Хористки плакали под впечатлением от модуляций Берлиоза, а премьеру одной из его увертюр прервали музыканты — когда началось «устрашающее соло тромбона и офиклеида», оркестр остановился и стал приветствовать броско инструментованную тему аплодисментами. Можно лучше понять стремительную эволюцию музыкального языка в XIX веке, если наблюдать за ней, держа в голове эту поразительную картину.
SERVE THE SERVANTS. КОНЦЕРТ КАК ФОРМА ПАЛОМНИЧЕСТВА
XIX век стал первым веком музыкальной коммерции. Концерт как форма развлечения и источник дохода начал соперничать с оперой. Оркестровые абонементы шли в комплекте с подпиской на наиболее солидные газеты; билеты на концерты были суррогатной валютой, их принимали к оплате в фешенебельных европейских универмагах. Вместимость концертных залов быстро выросла до уровня оперных домов. После 1850 года площадки, вмещавшие от полутора до двух тысяч человек, открывались каждые несколько лет — Цюрих, Париж, Вена, Базель, Прага, Нью-Йорк, Гамбург, Антверпен, Бостон, Москва etc. Рекордсменом долго оставался лондонский Royal Albert Hall, рассчитанный то ли на шесть, то ли на все двенадцать тысяч зрителей. В стройки вкладывались фабриканты роялей, издатели нот и железнодорожные магнаты: большие залы означали низкие цены; низкие цены — приток зрителей; приток зрителей — новые, еще более вместительные и лучше оснащенные залы.
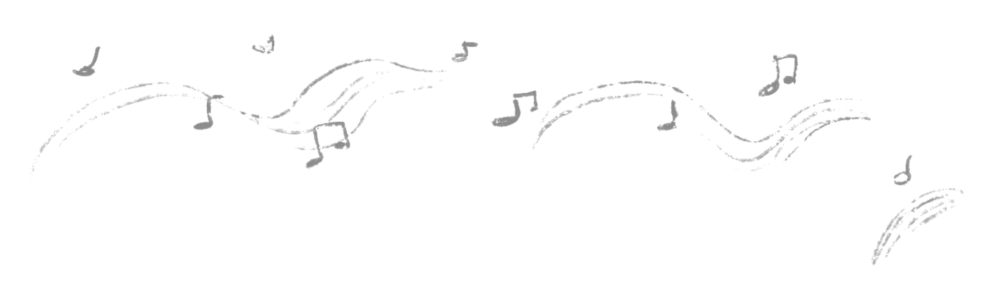
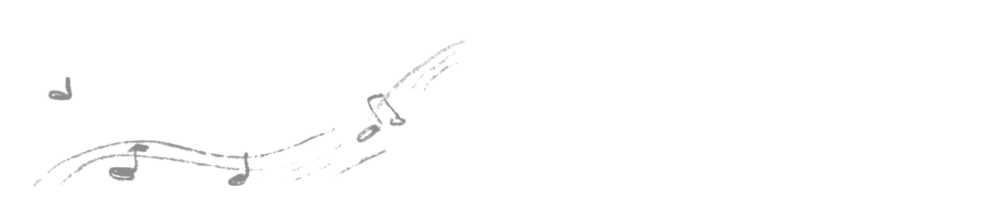
Технический прогресс стал одной из причин воцарившейся на концертах тишины. Новые залы отличались хорошей акустикой, в которой одинаково отчетливо звучат и тихая флейта на сцене, и сдавленный шепот через пять рядов. Если публика в пару тысяч человек хотела услышать в таком зале что-то, кроме собственного шума, она должна была научиться молчать — и научилась. К 1882 году не издавать отвлекающих шумов требовали от посетителей оперного театра в Байройте; позже Стравинский будет иронически вспоминать «сотни взбешенных взглядов», которые вызывало там его скрипящее кресло.
Квазирелигиозная атмосфера Байройта вообще довольно сильно повлияла на становление концертного этикета в его современном виде, распространившись оттуда в оперные театры и концертные залы всего мира. Инструментом влияния была сама музыкальная структура вагнеровских опер, где акт не делится на номера, идет без остановок и не оставляет публике места для оваций солистам. Вагнер запрещал аплодисменты после первого акта «Парсифаля»; Малер, его идеологический наследник, инструктировал зрителей ни в коем случае не хлопать между частями «Песен об умерших детях». Формы, в которых публика в концерте привыкла выражать себя, очевидно вызывали протест у этих двоих, как и у многих современных им коллег по цеху. Но почему? Что изменилось?
Технический прогресс стал одной из причин воцарившейся на концертах тишины

Изменилось все. Музыка эпохи Моцарта хотела развлекать и ценила красоту — музыка эпохи Вагнера хотела возвышать и ценила величие. Новый взгляд на искусство сформулировали в первые десятилетия XIX века немецкие философы и писатели-романтики. Искусство они ценили за способность зафиксировать особый, интенсивный, трансцендентный опыт, недоступный нашим органам чувств и нашему обычному воображению. Чтобы донести до нас этот опыт, нужен гений, одинокий герой-артист, обитающий на вершинах духа и в страдании создающий величественные творения, перед которыми мы, простые смертные, должны благоговеть. Судя по всему, авторов этой теории до крайности раздражало буржуазное обыкновение превращать все на свете в приятный аккомпанемент к выпивке и закуске quantum satis — и их можно понять. Взамен предлагалась ни много ни мало концепция искусства как своего рода секулярной религии. Композиторы стали небожителями, их произведения почитались как священное писание и требовали для себя особого сакрального пространства — отсюда распространенное по сей день представление о концертном зале как «храме искусства».
В ранний период существования концертов многие из них проходили в дни постов или церковных праздников, когда все остальные развлечения были запрещены. Новая роль моста между светским и сакральным пришлась поэтому концерту впору и быстро укоренилась. «В консерваторию ходят с религиозным рвением, как благочестивые в храм Господень», — заметил кто-то из наблюдателей еще в 1846 году. Перечитайте список запретов, с которого начинается этот текст. Не напоминает ли он монастырский устав? Суть религиозного, доренессансного взгляда на мир — в том, что в мире есть нечто более важное, чем человек. Позднеромантический концертный этикет воскрешает этот взгляд и применяет его к искусству. Если на зрителя, забывшего выключить телефон, уничтожающе смотрят все соседи, значит, чувства человека менее важны для них, чем необходимость обеспечить звукам, раздающимся со сцены, возможность раздаваться правильно и без помех.
Композиторы стали небожителями, их произведения почитались как священное писание и требовали для себя особого сакрального пространства — отсюда распространенное по сей день представление о концертном зале как «храме искусства»
Вагнер был первым дирижером, повернувшимся к публике спиной. Эдуард Ганслик, один из самых влиятельных критиков XIX века и принципиальный оппонент Вагнера, написал книгу о венской музыкальной жизни, полностью игнорируя танцевальные капеллы, духовые оркестры, парковые променады и все остальные «развлекательные» виды концертов. Для обоих музыка — дело серьезное. Исполнитель, слушатель, да и композитор существуют не для себя и не друг для друга, а во имя вящей славы музыки как таковой. Роли служителя искусства подобает сдержанность. Идеальный музыкант полностью растворен в музыке и ничем не привлекает к себе внимания — самовольные изменения в тексте и открытые эмоции при игре запрещены ему так же строго, как откровенные наряды, активное общение с публикой и обильные поклоны.

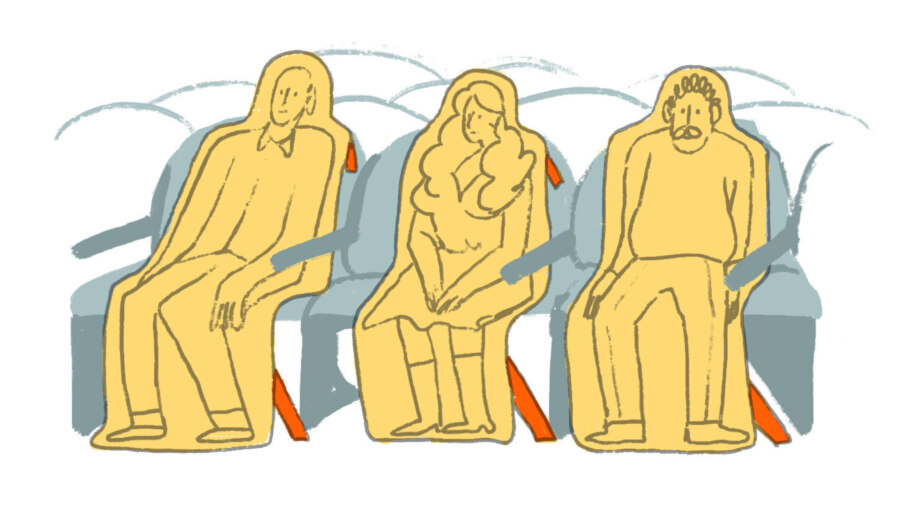
Идеальный слушатель неподвижен, не издает звуков, и, кажется, вовсе лишен телесности, превращен в бесплотное созерцание. В звуках он ищет другую реальность, скрытую от глаз и непостижимую разумом; еще Шопенгауэр объявил музыку выражением чистой трансценденции, а просвещенная публика эпохи fin de siècle остро интересовалась Иными Мирами и в стремлении проникнуть в них соглашалась на любые доступные инструменты, от поэзии символистов и оркестровых опусов до спиритических сеансов, наркотических трипов и оккультных практик. Идеальный композитор умер лет сто назад, а его сочинения прошли проверку временем и объявлены классикой — так их проще и продавать, и превозносить. В 1820 году оркестровый репертуар на семьдесят процентов состоял из музыки живых композиторов, ближе к концу века осталось процентов двадцать. Типичный симфонический концерт наших дней — в сущности, хоррор, ночь живых мертвецов.
(A parte. История с романтизмом и служением иррациональному культу искусства с определенных ракурсов может показаться подозрительно знакомой. Бизнес, используя передовые технологии, выстроил инструменты коммуникации, чтобы зарабатывать деньги, — а люди при помощи этих инструментов объединились в группы и стали культивировать идеи, которые некоторое время спустя привели всех к катастрофе. В XIX веке из духа музыки и технического совершенства газет, железных дорог и гигантских залов для массовых собраний родились психология толпы, мания национального величия и в конечном итоге мировая война. В XXI веке на острие прогресса оказались соцсети — и ничего хорошего из них, кажется, тоже пока не выросло. Проводить дальнейшие параллели предоставляю читателю.)
Идеальный композитор умер лет сто назад, а его сочинения прошли проверку временем и объявлены классикой — так их проще и продавать, и превозносить
ПРАКТИКУМ ОСОЗНАННОСТИ. КОНЦЕРТ КАК ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Две обрисованные выше модели концерта, Развлечение и Служение, редко встречаются в чистом виде. В истории они существуют, скорее, параллельно, смягчая и корректируя друг друга. Примером может служить история Первой симфонии Шнитке. Автор планировал закончить ее постепенным уходом музыкантов за кулисы — зал погружается в темноту, публика выходит в сосредоточенном возвышенном молчании, никаких аплодисментов. Примерно так сейчас заканчивает некоторые свои концерты Теодор Курентзис. Но тогда, в начале 70-х годов, готовивший премьеру Геннадий Рождественский спросил композитора: «А как же мы будем выходить на поклоны?», и Шнитке изменил конец, вернув все-таки оркестр на сцену.
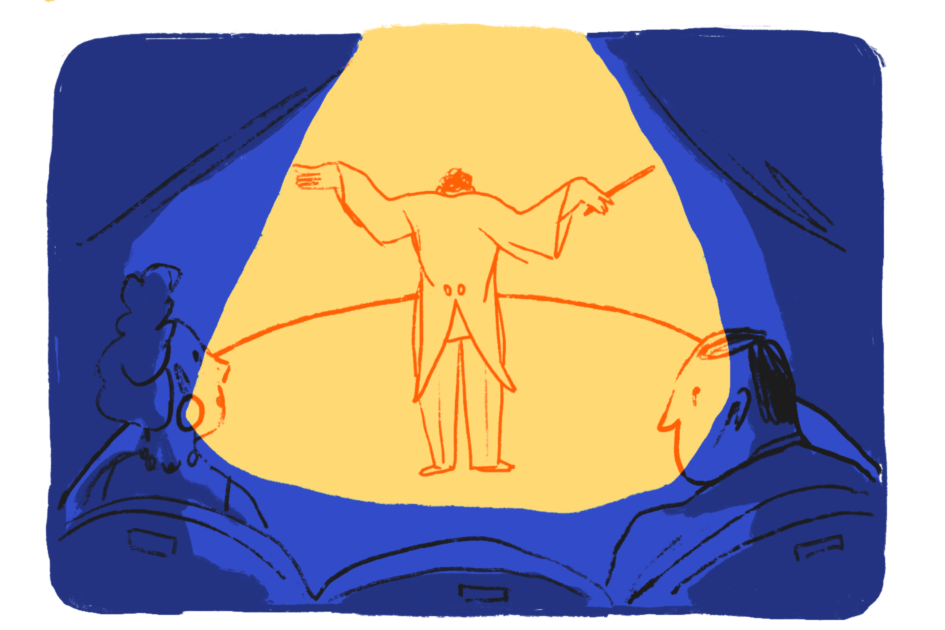
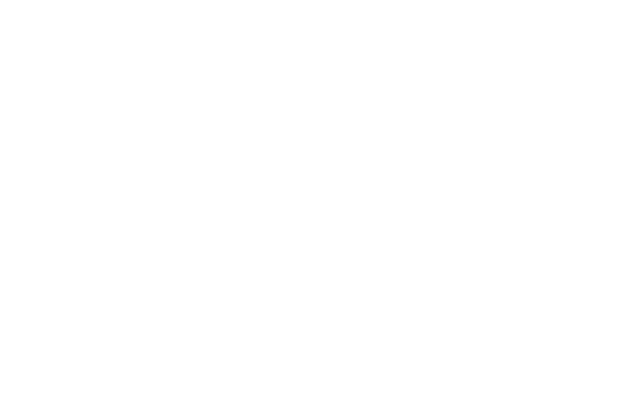
Овации и поклоны явно шли вразрез с драматическим замыслом, и композитору пришлось решать, что важнее. Он выбрал удобство для музыкантов и считал потом, что выбрал правильно. Но изначальный замысел также заслуживает внимания, поскольку Шнитке, наследник немецкой романтической традиции, умел выводить на поверхность ее скрытые символические обертоны. В самом деле, кто из нас не мечтал в моменты, когда музыка, завершаясь, плавно соскальзывает в тишину, чтобы эта тишина так и осталась ненарушенной? Дирижер еще не опустил руки, зрители удерживаются от хлопков, музыка прячется в магическом круге безмолвия. Потом кто-то в публике не выдерживает первым и начинается обычный ритуал успеха, признания, славы, удовольствия и восторга. А пока он продолжается, мы можем напоследок задать себе несколько вопросов.
Реакция зрителей, у каждого из которых в голове Развлечение и Служение смешаны в разных пропорциях, дает порой захваты-вающий материал
для наблюдений
Чего мы все-таки хотим, приходя в концертный зал, хоть через главный вход, хоть через служебный? Пообщаться при помощи музыки с высшими силами — или друг с другом? Развлечь себя приятными звуками и интересной компанией — или восхититься духовным подвигом? Оба варианта приемлемы, если не доводить до крайностей, но они плохо сочетаются, поэтому нам приходится делать выбор, и лучше бы осознанный.
Осмысленны ли наши аплодисменты и что они собой выражают? Не превратились ли они в простой знак пунктуации, формальную акустическую запятую, поставить которую можно, вовсе не видя смысла в происходящем, а просто — раз настала тишина, значит, что-то кончилось и надо заполнить паузу? Даже парижские клакеры, главные циники в истории публики, за деньги продававшие успех или неудачу любого спектакля, относились к происходящему всерьез и учили либретто наизусть: по работе надо было. А мы? Давно ли мы открыто выражали неудовольствие концертом, который нам не нравится? Когда в последний раз музыка казалась нам самой важной вещью на свете?
Не продуктивнее ли относиться ко всему происходящему на концерте как к тотальному перформансу? События случаются, но мы не даем им оценку, а просто регистрируем. Любые эксцессы — публика захлопала не в такт, артист забыл ноты, телефон зазвонил, сосед захрапел, прожектор взорвался — становятся частью сюжета. А реакция зрителей, у каждого из которых в голове Развлечение и Служение смешаны в разных пропорциях, дает порой захватывающий материал для наблюдений.
Что, наконец, будет написано о нынешнем концертном этикете в письме, которое достанут из бутылки и прочтут через сотню лет наши потомки? Все ли нас в нем устраивает? В наших силах добавить в письмо пару строчек и смягчить некоторые формулировки, сделав происходящее живее и гуманнее. Для этого нам, возможно, придется кое-что поменять в себе и кое в чем убедить окружающих. Попробуем разобраться?




