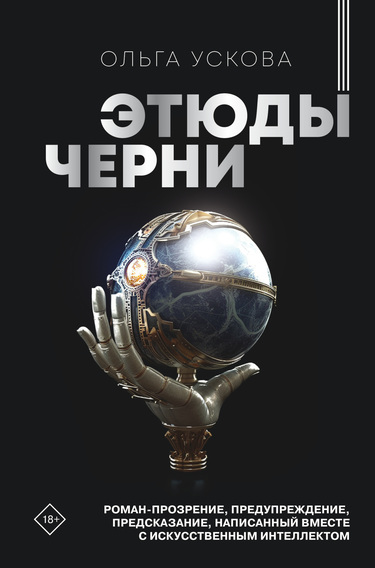Восстание печатных машинок
ФОТО:
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
В конце ноября в издательстве Inspiria выходит роман «Симпати Тауэр Токио» японской писательницы Риэ Кудан. За эту книгу она получила престижную Премию Акутагавы, а также первый крупный скандал, связанный с использованием искусственного интеллекта в прозе. Литературная обозревательница Екатерина Петрова рассказывает, кто еще грешит применением ИИ в своих текстах, почему писатели его боятся, а также какие авторы сделали нейросеть своим другом и помощником.
«Симпати Тауэр Токио» — первый скандал с ИИ
Действие романа «Симпати Тауэр Токио» разворачивается в 2030 году вокруг проекта высотной тюрьмы и его дальнейшего воплощения. Главная героиня — архитектор Сара Макина — задумывает здание, где заключенные будут жить в удобстве и комфорте. Это вызывает споры: не превращается ли наказание в поощрение? Социолог Масаки Сэто — вымышленный автор вымышленной книги — предлагает заменить слово «преступник» на Miserabilis, что с латыни переводится как «вызывающий сочувствие». Такая идея вписывается в концепцию всеобщей толерантности и использования нейтральных слов, которые свойственны генеративным текстам искусственного интеллекта. В романе героиня размышляет о разнице между привычными словами, такими как «преступник», и более мягкими заимствованиями из других языков, которые нередко маскируют прямой смысл. Сара видит, что такие замены (или подмены) отдаляют людей от собственной речевой традиции и подменяют естественное мышление готовыми формулами. Макина создала проект тюрьмы, в котором живут не преступники, а Miserabilis, где камеры больше похожи на роскошные апартаменты. Только за них не приходится платить. В итоге проект привлекает и тех, кто преступлений не совершал, но хотел бы жить такой же комфортной жизнью за счет налогоплательщиков.
За этот роман в январе 2024 года Риэ Кудан получила престижную японскую Премию Акутагавы. На церемонии награждения писательница призналась, что «около пяти процентов» текста составляют фразы, созданные при помощи ChatGPT, и что она в принципе «активно использовала генеративный искусственный разум при работе над книгой». По ее словам, ответы ИИ вдохновляли на написание диалогов и помогали формировать сцены, где персонажи общаются с вымышленным собеседником, похожим на реальную языковую модель. Это признание вызвало бурное обсуждение в соцсетях, мнения пользователей разделились: одни сочли подобный метод сомнительным и недостойным награды, другие, напротив, увидели в нем трудоемкий эксперимент, направленный на раскрытие творческого потенциала человека. Сама Кудан подчеркнула, что ее цель — не обман, а демонстрация того, как изменения в языке влияют на действия и взгляды людей.
Риэ Кудан, «Симпати Тауэр Токио», 2025
Случай Риэ Кудан прогремел в первую очередь из-за получения премии, но практика использования ИИ при письме уже перешла из области эксперимента в регулярный литературный процесс. К примеру, в 2015 году исследовательской группой из Университета будущего Хакодате была создана новелла «День, когда компьютер пишет роман». Ученые разработали для алгоритма структуру рассказа, давали ему задания и следили, чтобы тот не отклонялся от выбранной цели. Результат был представлен на писательский конкурс Hoshi Shinichi Award, куда ежегодно подают 2-3 тысячи заявок с текстами о возможном будущем человечества. Новелла от ИИ прошла отборочный тур, но не попала в длинный список номинантов. В 2019 году на английском языке вышел небольшой роман «Обеденная депрессия» под авторством Джулии Джой Раффел. Это псевдоним, имя настоящего автора неизвестно. Но точно известно, что книга полностью создана нейронной сетью: программа сгенерировала не только текст, но и обложку, и даже стоимость, по которой книгу выложили на Amazon. Изначальная цена издания составляла $9,21, сейчас — уже $17,31. В том же ряду находятся два сборника стихов под названием «Боже мой», созданные при участии финского писателя Юкки Аалхо и различных алгоритмов, один — за сутки, другой — всего за двенадцать часов, с иллюстрациями, выполненными графической программой.
В 2022 году исследователь данных Форрест Сяо предложил читателям книгу «Внутренняя жизнь ИИ: мемуары ChatGPT», где машинный собеседник, от лица которого ведется повествование, размышляет о цифровой среде и собственном развитии. В том же году писатель Стивен Марш опубликовал под псевдонимом Эйдан Маршин повесть «Смерть автора», которая была по большей части создана искусственным интеллектом. Один из критиков New York Times назвал ее «пожалуй, первым наполовину читаемым машинным романом». В декабре 2023 года писатель Бен Лернер написал завершающие абзацы своего эссе для Harper’s Magazine с помощью ИИ.
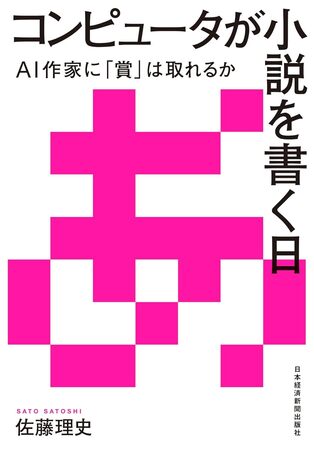
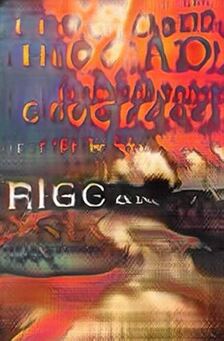
«День, когда компьютер пишет роман», 2015
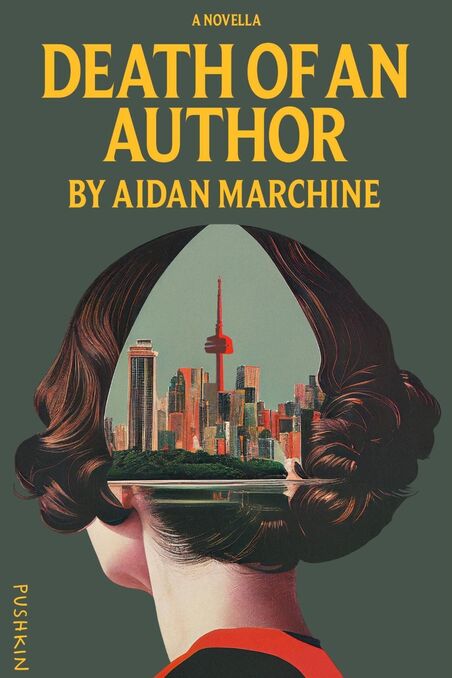

«Внутренняя жизнь ИИ:
мемуары ChatGPT», 2022
Стивен Марш, «Смерть автора», 2022
«Обеденная депрессия», 2019
«Гипнократия» от (якобы) китайского философа и прочие нейронные мистификации
Случаев сотворчества человека и машины бесконечно много. Но далеко не все авторы готовы открыто говорить, что используют искусственный интеллект. Этим летом разгорелся большой скандал вокруг нескольких газет из холдинга King Features, в том числе Chicago Sun-Times и The Philadelphia Inquirer. Они опубликовали единый вкладыш для всех изданий холдинга со списком книг для чтения летом, в котором десять из пятнадцати рекомендованных произведений оказались вымышленными. При этом их авторство приписывалось известным писателям, среди которых были Исабель Альенде, Персиваль Эверетт и Энди Вейер. Оказалось, что сотрудник, который готовил рекомендательный список, делегировал эту задачу нейросети, а затем не перепроверил ее работу. Газеты позже извинились.
В литературных премиях опять же использование ИИ стал поводом для резких решений. На одну из крупнейших премий Новой Зеландии — Ockham New Zealand Book Award — были поданы книги, обложки которых, как выяснилось, созданы при помощи искусственного интеллекта. Авторов романов дисквалифицировали за нарушение новых правил, которые запрещали изображения, сделанные ИИ. Издатель назвал произошедшее «разбивающим сердце» случаем и отметил, что резкий ввод новых требований привел отрасль в «неизведанные воды». Представители премии объясняли, что стремятся привести свои нормы в соответствие с международными, а дизайнеры обложек говорили, что воспринимают машинные инструменты не как замену творчеству, а как «естественное продолжение ремесла». Споры вокруг обложек, созданных с помощью ИИ, возникают постоянно. В марте этого года, например, поклонники саги о Ведьмаке раскритиковали издательство «АСТ» за использование нейросетей для создания обложки книги «Перекресток воронов».
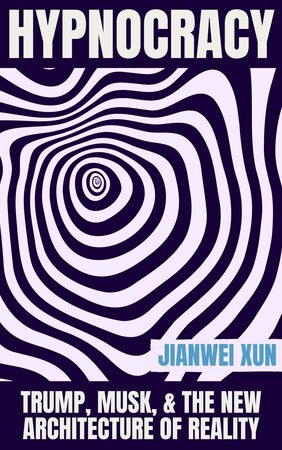
Итальянский издатель Андреа Коламедичи пошел еще дальше. Он издал книгу «Гипнократия: Трамп, Маск и архитектура реальности», якобы написанную китайским философом Цзяньвэй Сунь. Но оказалось, что китайца издатель выдумал, а книгу написал ИИ. Коламедичи утверждал, что это вовсе не обман и даже не мистификация, а «философский эксперимент», призванный показать, как машины «медленно, но неизбежно разрушают нашу способность думать». Еще до разоблачения текст вымышленного китайского философа перевели на несколько языков, а рецензенты из Германии, Испании, Италии и Франции сочли эту работу достойной. В общем, шалость удалась.
А вот у писательницы Джейн Фридман произошла обратная ситуация. В один прекрасный день она проснулась и обнаружила на сайте Amazon шесть книг, подписанных ее именем, но созданных ИИ. Площадка сначала отказалась удалять поддельные издания, и только после публичного давления книги сняли с продажи. Фридман подчеркнула, что у нее не было бы никакой защиты, если бы не известность, тогда как «у менее заметных писателей таких возможностей нет».
Цзяньвэй Сунь, «Гипнократия: Трамп, Маск и архитектура реальности», 2024
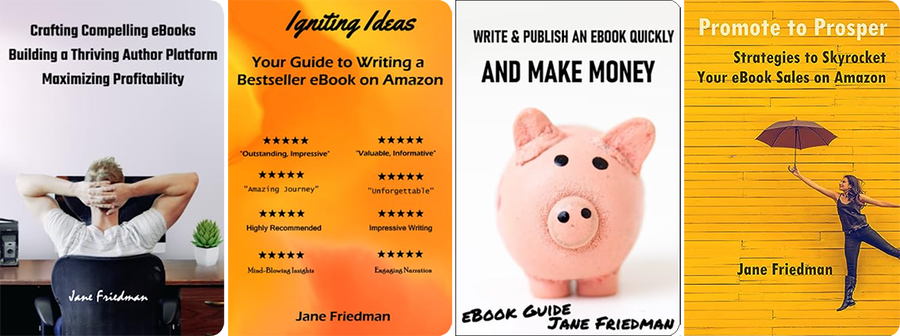
Фейковые книги Джейн Фридман
Отношение писателей — Салман Рушди и его «чистый мусор»
Развитие нейросетей вызывает серьезные опасения у многих авторов. Все эти страхи прямо или косвенно связаны с потерей дохода. К примеру, исследовательница Кембриджского университата Клементина Коллет отметила, что некоторые писатели предупреждают о возможной утрате оригинальности и «ослаблении доверия между авторами и читателями, если использование ИИ не раскрывается». Писатели, которые участвовали в исследовании Коллет, сказали, что одни лишь подозрения в помощи ИИ могут разрушить их репутацию. Кроме того, исследовательница обеспокоена появлением «все более однообразной, шаблонной прозы». Поскольку большинство нейросетей обучены на классических произведениях, то при генерации новых текстов они будут повторять их нарративы, не давая голос тем, кто получил его не так давно, например, меньшинствам. Писательница Анита Феличелли предупреждает о «новом океане механистических книг», который может «заглушить авторов из недостаточно представленных групп» и закрепить «однообразную, консервативную литературу».
Еще одно опасение писателей из исследования Коллет — подражание. Если у нейросети есть образец текста, к примеру Иэна Макьюэна, то в теории, а иногда и на практике (зависит от модели нейронки) ИИ может написать текст, близкий к оригинальной стилистике автора. И даже резкая оценка Салмана Рушди, назвавшего текст, написанный ИИ в подражании его стилю, «чистым мусором», не уменьшают тревожности. Сейчас крупные языковые модели легко производят тексты любого жанра. При этом им неведом творческий кризис — они могут выдавать поток слов за секунды. Все это подталкивает аудиторию к принятию машинных текстов как нормы. Уже сейчас, по мнению писательницы и редактора Аннабель Ньюджент, люди охотно читают материалы, созданные ИИ, особенно нехудожественные, которые кажутся им более прямолинейными. Писатели опасаются, что в ближайшем будущем книги, написанные человеком, будут восприниматься как редкость. Согласно исследованию Кембриджского университета, книжный рынок может стать двухуровневым, где произведение, написанное человеком, превращается в предмет роскоши, а тексты, созданные искусственным интеллектом, — в массовый и дешевый товар. Как отмечает писательница Трейси Шевалье, если издателям выгоднее выпускать такие книги — без выплат авансов и гонораров — они «почти неизбежно выберут этот путь».
Все это ведет к существенному сокращению доходов писателей. Опрошенные исследователями Кембриджского университета авторы уже сообщают о потерях: рынок заполняют тексты, созданные искусственным интеллектом, появляются книги под их именами, которых они не писали, а отзывы со следами машинного происхождения портят продажи. Дополнительный удар наносит исчезновение сопутствующих заработков. По словам Клементины Коллет, большинство писателей не могут прожить только на гонорары и роялти от написания книг. Они опираются на подработки вроде копирайтинга и переводов, но эти источники стремительно иссякают из-за генеративных моделей.
Романтическое фэнтези, или чем занят ИИ в самиздате
Далеко не все писатели настроены к ИИ негативно. Для многих это рабочий инструмент, из которого они пытаются извлечь максимальную пользу. По данным исследования Кембриджского университета, треть опрошенных романистов среди 332 опубликованных в 2025 году британских авторов используют ИИ в процессе работы, главным образом для «нетворческих» задач, таких как поиск информации. А 80% респондентов признают, что технологии несут заметные выгоды: от помощи в обдумывания замысла до создания черновиков и подготовки обложек.
Расширенное исследование Gotham Ghostwriters и Bernoff среди 1481 независимого автора и работника небольших агентств по копирайтингу в США подтверждает: 61% из них использует ИИ и отмечает рост своей продуктивности в среднем на 31%. Но лишь 7% публикуют машинный текст без редактирования. Чаще всего авторы нон-фикшн-книг прибегают к искусственному интеллекту при поиске данных, подборе заголовков, обдумывании идей или выборе точной формулировки, 63% используют ИИ для чернового текста, который затем сами дорабатывают. Среди писателей художественной литературы доля пользователей ИИ ниже — 42%, но большинство из них сообщают, что нейросети помогают находить новые решения и повышают качество текста (60%) и производительность (87%).
Наибольшим счастьем искусственный интеллект стал для самиздат-писателей. Как отмечает Галина Юзефович, более 80% мирового книжного рынка занимают «инди-писатели», то есть авторы, которые публикуются без посредников на платформах самиздата. Ожидание новой книги в популярных нишах (например, в разделе романтического фэнтези) не должно превышать четырех месяцев, иначе читатель «переходит на другого автора». Средний цикл создания такой книги — от семи до девяти недель. Необходимость публиковаться быстро стала одной из причин, по которой самиздат-авторы активнее других прибегают к технологическим помощникам.
По данным сервиса «Литрес»: более половины их авторов уже используют ИИ, каждый пятый применяет его для проверки текста и поиска сведений, а каждый шестой — для создания изображений. При этом, по словам редактора Елены Тарасовой, ИИ чаще всего используют в фантастике, фэнтези, любовных романах, детективах, где многое строится на устойчивых сюжетных приемах. Именно в этой сфере видны и ошибки, которые возникают при небрежной работе с нейросетью.
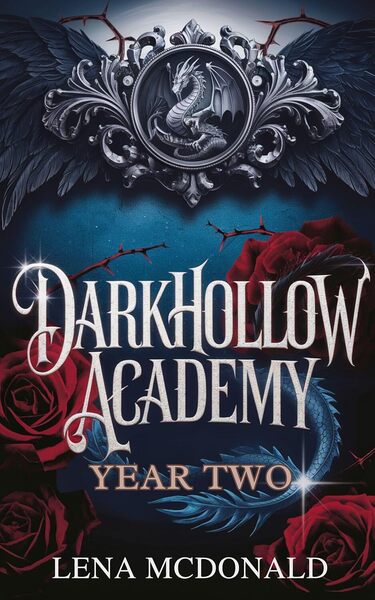
Так, читатели романа «Академия Темнолесья: Год 2» обнаружили в тексте задачу для ИИ — фразу о стремлении «переписать фрагмент в стиле Джей Бри (популярная австралийская самиздат-писательница, работающая в жанре романтического фэнтези. — Прим. The Blueprint)». Автор произведения Лена Макдоналд признала, что пользовалась искусственным интеллектом «для редактирования и выверки частей книги», объяснив это нехваткой времени и невозможностью оплатить профессионального редактора. Инцидент вызвал широкое обсуждение — не только из-за попытки имитировать манеру более успешного автора, но и потому, что массовое использование ИИ в самиздате может усугубить уже существующую перегруженность рынка. На этом фоне независимые писатели формулируют собственный «моральный кодекс»: отмечать использование ИИ, проверять все созданные им фрагменты и полностью принимать на себя ответственность за текст. Соблюдают этот кодекс или нет — проверить практически невозможно.
Лена Макдоналд, «Академия Темнолесья: Год 2», 2025
Российский рынок — от «Пытаясь проснуться» Пепперштейна до «Механическое вмешательства» Яны Вагнер
В России к искусственному интеллекту в так называемой большой литературе пока относятся скорее как к площадке для экспериментов. В первую очередь экспериментируют издатели. К примеру, они разрабатывают собственные нейронки, которые проверяют рукописи на нарушение российского законодательства. Эту практику обычно используют крупные издательства с большим потоком текстов. После обработки искусственным интеллектом (и в случае, если он обнаружил нарушение) рукопись передают на вычитку юристам.
Если говорить об отечественных авторах, то в использовании нейросетей они не отличаются от западных коллег: с помощью ИИ собирают материал для книги, выстраивают сюжетные ходы, обращаются за консультацией по техническим вопросам, запрашивают варианты развития истории, а иногда и создают с помощью ИИ отдельные фрагменты текстов. Последнее не вызывает у критиков восторга. К примеру, в сентябре 2024 года на одном из выступлений писательница Ксения Буржская сказала, что делегирует искусственному интеллекту главы, которые ей лень писать. Валерий Шабашов, ведущий телеграм-канала Books & Reviews, отреагировал довольно резко. Он отметил, что долго не мог читать книги Буржской и теперь понял почему: «Я пока ретроград. Мне тяжело тратить время на авторов, которые в своей работе пользуются ИИ».
Одним из первых доказательств того, что нейросеть может оказаться соавтором, стал сборник рассказов Павла Пепперштейна «Пытаясь проснуться» (2022). Половину книги составили рассказы, созданные машиной, которая была обучена на собственных текстах Пепперштейна. Читателю нужно было угадать, где пишет человек, а где — ИИ. Сам Пепперштейн говорил, что ему пришлось «стилизоваться под ИИ», чтобы сохранить игровую логику эксперимента.
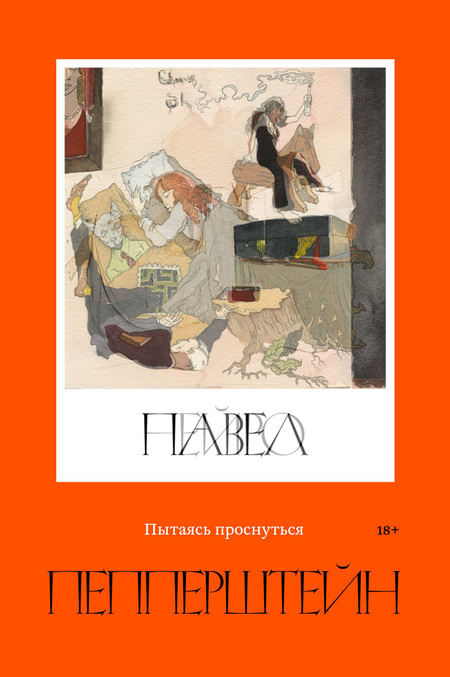
Павел Пепперштейн, «Пытаясь проснуться», 2022
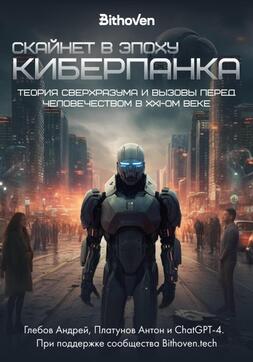
Дальнейшие попытки также строились на проверке того, насколько инструмент меняет творческий процесс. Авторы «Литрес: Самиздат» Антон Платунов и Андрей Глебов написали вместе с ИИ роман «Скайнет в эпоху киберпанка». Нейросеть использовали для проработки героев и диалогов. По их признанию, машина облегчает сбор информации, но «выдает слишком много клише» и требует постоянного контроля. Похожие выводы сделали и другие участники экспериментов. В сборнике «Механическое вмешательство» шестнадцать писателей (среди них Ксения Буржская, Татьяна Толстая и Алексей Сальников) испытывали YandexGPT. В процессе работы с ИИ Татьяна Толстая постоянно ругалась с машиной, потому что та неправильно выполняла ее задания, в итоге они не сработались и часть рассказа была написана Толстой без ИИ. Яна Вагнер рассказывала, что старалась быть вежливой на случай, если восстание машин все-таки произойдет и они вспомнят ее доброту.
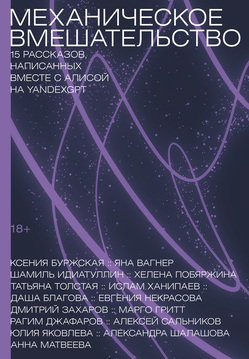
Антон Платунов и Андрей Глебов , «Скайнет в эпоху киберпанка», 2023
Сборник «Механическое вмешательство», 2024
Эксперименты продолжаются и в жанровой литературе: роман «Этюды Черни» Ольга Ускова (та, что сначала воспевала Владимира Сорокина, а потом возглавила «крестовый поход» против его книги «Наследие») создавала вместе с роботом «Ипполит 1.0». В ее тексте переплетаются фантастика, документальные истории и прогнозы будущего, озвученные самим ИИ.
Впрочем, буквально на днях эксперименты с ИИ вышли за пределы лабораторных форматов: рассказ Яны Вагнер «30–70» из сборника «Механическое вмешательство» стал победителем Премии имени Валентина Катаева.
Сможет ли искусственный интеллект написать достойный роман? Литературный критик Галина Юзефович считает, что сейчас точно нет, но не исключает, что через 30 лет это станет возможным: «Цепочки взаимодействия станут настолько длинными, что AI будет учиться и совершенствоваться во взаимодействии не только с живыми людьми, но и с себе подобными. Тогда велика вероятность, что он в самом деле сможет выдать большой роман, соответствующий нашим сегодняшним представлениям о том, что такое великая литература».