
БЕРЕГИТЕ МУЗЫКУ
Фото
МАРИНА ДМИТРИЕВА
Продюсер
ВИКТОРИЯ СЛАЩУК
Креативный директор
ЛИЗА КОЛОСОВА
текст
антон светличный
В Перми завершился ХХ Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса. Программа, как всегда, была масштабна и максимально насыщенна: оратория «Триумф времени и разочарования» Генделя, «Персефона» и Симфония псалмов Стравинского, open-air проект «Поэма горы», спектакль-променад «Персефона.До», а также концерты, лекции и хор бабушек — композитор, пианист и лектор Антон Светличный, который специально для The Blueprint провел в Перми три дня, сбился с ног, чтобы везде побывать. А в итоге успел даже больше, чем планировал: открыл для себя неожиданную радость наблюдения за игрой в пинг-понг.
Туриста, прилетевшего в Пермь, в аэропорту встречает небольшая экспозиция — фотоотчет с Дягилевских фестивалей прошлых лет. Сразу вспоминаешь баннеры Дома Радио на перронах Московского вокзала в Петербурге и начинаешь искать за рекламными акциями на транспортных путях какой-то символический смысл. Смысл отыскивается у философа Секацкого: истинное путешествие есть Путь — ритуал встречи один на один с пространством, необратимо меняющий того, кто путешествует. Путешествия такими теперь почти не бывают; но зато есть фестиваль, явно ставящий перед собой примерно аналогичные (трансфигурационные) задачи. В прошлый раз я был на Дягилевском в 2021 году — и тот форум не менее символически открывался поэмой Рихарда Штрауса про смерть и духовное преображение.

Как и два года назад, Дягилевский длится дней 10–12, и в этот короткий отрезок плотно упаковано огромное количество контента. Для комфортного усвоения программу следовало бы уложить недели в три, но Дягилевский в немалой степени ориентирован на приезжих зрителей (и на местный upper middle class) — а три недели москвичи в Перми сидеть не станут. В результате фестиваль отличается высоким темпом и трудновыносимой концентрацией; посетить все, что есть в афише, решительно не в человеческих силах. Приходится выбирать. Еду на три дня из четырех последних, пропустив несколько ключевых концертов и пару важных перформансов; в этом году, впрочем, многое транслируется онлайн и трансляции решили сохранять, так что желающие имеют возможность наверстать упущенное.
истинное путешествие есть Путь — ритуал встречи один на один с пространством, необратимо меняющий того, кто путешествует
Силовые линии фестивальной программы пролегают, если вдуматься, довольно примечательным образом. Вот инклюзивность: от развивающих занятий для детей до хора бабушек в духе программы «Московское долголетие». Или мультикультурность: концерты на коми-пермяцком языке, размышления о татарской идентичности и в целом неожиданное обилие этники. За науку и технический прогресс отвечают лекции резидентов Сколтеха про нейрофизиологию и устройство материи. Практически все концерты играют российские исполнители. Приезжих немного — Сербия, Пакистан, и, безусловно, Греция. Но греческая культура в проектах musicAeterna давно чувствует себя как дома, лишь подчеркивая общий смысловой уклон в сторону трагедии, мифа и мистериальности.
Ночью в Перми дождь и не по-летнему зябко. На пути из аэропорта дорогу машине перебегает внезапный лось. Утром, слегка вздремнув после перелета (опытные зрители знают — нормально выспаться на Дягилевском все равно невозможно), отправляюсь, наконец, по курсу фестиваля, на встречу с неизвестным.

Какое-то время назад ситуативным центром фестиваля выглядел завод Шпагина. В этот раз похожая роль у филармонии «Триумф»: сюда переехали книжный магазин и фестивальный клуб, здесь или неподалеку проходит чуть ли не половина всех событий (впрочем, если мысленно отделить фестивальный клуб от основной программы, впечатление может измениться). Прихожу пораньше и коротаю время, изучая окрестности. За рамками Дягилевского жизнь идет своим чередом. На стенах соседних домов афиши цветасто зазывают на «главный музыкальный фестиваль лета» — Red Fest, а не то, что вы подумали. В кафе Eggs, где по вечерам показывают один из перформансов, с утра группа женщин околобальзаковского возраста внимает тренингу про продающий визуал в соцсетях. В самом «Триумфе» события фестивального дня уже начались — идут развивающие занятия для детей. Дети радостно визжат и бегают кругами под музыку — что-то этническое, потом Kraftwerk, потом «Пещера горного короля», сыгранная пластмассовыми синтетическими звуками и в неожиданном свинге.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
ГОРА И БОЛЬ, ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ, ЧЕРТИ, ДУХИ И СНОВА ГОРА
ДЕНЬ 1
Люди стягиваются на «Распев» — хоровую практику, где солисты хора musicAeterna разучивают с любителями несложные сочинения. Принимают всех, кто сможет пройти профессиональный ценз — участники должны иметь «базовые навыки пения и чтения нот». Некоторые приходят явно не в первый раз — волонтеры узнают гостей в лицо. Собирается человек двадцать пять, подавляющее большинство — девушки от 20 до 30 лет; на мужскую партию не хватает людей, поэтому решаюсь подключиться тоже. Поем вроде бы аранжировку My Heart in the Highlands Арво Пярта, но рядом со стихотворением Бёрнса появляются отсутствующие в оригинале православные строчки. Аранжировка оказывается интерпретацией, вскрывает в сочинении религиозный смысл — или привносит его туда. Конечно, у Пярта имплицитную религиозность можно предполагать в любом опусе, но здесь ей, возможно, было бы лучше остаться в подтексте, а не торчать наружу. Хоровая работа идет без спешки и довольно эффективно; за полтора часа успевают обсудить даже произношение — характерно, что церковнославянское, а не английское. В конце номер поют целиком, радостно аплодируют друг другу и отправляются делать групповые снимки в фотозоне.



В арт-пространстве начинается лекция на интригующую тему: «Как научиться не чувствовать боль: новые открытия в нейрофизиологии». Сразу выясняется, что никак, а тема лекции — просто завлекательный заголовок. На этом месте аудитории бы дружно встать и выйти, чтобы не поощрять кликбейт. Но все, конечно, остаются и слушают не очень связный рассказ про функциональную электростимуляцию, мультимодальную нейрореабилитацию, инновационную персонализированную медицину и т.п. На слайдах становится все больше узкоспециальных терминов; зачем они обычному зрителю и как эта технологическая утопия соотносится с реальностью медицины массовой — ясно не вполне.
К лекционной части происходящего вообще есть некоторые вопросы. Рядом с блестящими выступлениями музыковедов здесь встречаются темы больше общефилософские, чем научные, и читают их неспециалисты. Александр Корсунский из Оксфорда занимается микроскопией и биоматериаловедением, но один из двух его докладов — почему-то о связях науки и искусства. Анна Горовая, PhD Сколтеха, кроме лекции про боль читает еще и другую, о природе гениальности — и ей оказываются недовольны даже комментаторы в телеграм-канале фестиваля, обычно склонные, скорее, к восторженности. Йоргос Калудис, греческий исполнитель на критской лире, у которого здесь кроме трех концертов две лекции, и вовсе рассказывает про «влияние звуков и помыслов на воду». Михаил Ямпольский в «Наблюдателе» описывал все это в терминах кризиса посткартезианского субъекта, чья картина мира расколота на обломки, между которыми нет иерархии и логической связи. Зазоры между осколками призвана заполнить фирменная фестивальная спиритуальная нагрузка. Понять, как все устроено, мы не можем; остается только верить, что за хаосом все-таки скрыт порядок, — и постигать его через разного рода духовные ритуалы.
Понять, как все устроено, мы не можем; остается только верить, что за хаосом все-таки скрыт порядок, — и постигать его через разного рода духовные ритуалы

Перед началом вечерних концертов успеваю ненадолго забежать на мастер-класс, который Алексей Ретинский дает композиторам — студентам образовательной программы. Ретинский одет в черное (включая очки и бейсболку козырьком назад) и говорит будто с легким греческим акцентом. Студентам он дал задание вступить в творческий диалог с Генделем, сочинив небольшую пьесу по мотивам одной из его арий, и сегодня слушает, что у них получилось. Получилось по-разному — у кого Брехт, у кого Егор Летов или «лубочное барокко». Обсуждают полифоническое мастерство, непредсказуемость оркестрового баланса и парадоксальные отношения между музыкой и контекстом: с одной стороны, хорошая музыка, конечно, должна говорить сама за себя, не нуждаясь в объяснениях; с другой — что-то неочевидное она может сказать только тому, кто научился понимать ее язык. Заходит разговор и про ораторию Генделя, премьера которой состоялась в оперном театре днем ранее. К постановке студенты настроены критически, дискуссия разворачивается любопытная, но время поджимает, и приходится с сожалением откланяться.
***
В цехе Д1 завода Шпагина перкуссионист Петр Главатских с друзьями представляют программу «Времена 300» в честь двойного юбилея Перми и «Времен года» Вивальди. Добираюсь до цеха обычным шпагинским маршрутом через почти всю заводскую территорию, в этом году непривычно пустынную. Обстановка внутри немного призрачная. На стенах черные драпировки до потолка. Сцена подсвечена желтым контровым светом и возвышается над уровнем зала метра на полтора. На сцене клавесин, микрофоны, стол со свистульками и разнообразные ударные инструменты — в том числе подвешенный на раме семантрон, при ближайшем рассмотрении оказывающийся обычной доской толщиной чуть выше среднего.
Программа построена по методу, который Владимир Мартынов описывал как бриколаж, а Умберто Эко — как типичное для философии нью-эйджа пренебрежение к противоречиям. Друг друга в прихотливом порядке сменяют части концертов Вивальди, сольные перкуссионные импровизации, концерт для маримбы бразильца Нея Розауро и аутентичный пермский фолк. По отдельности все компоненты хороши. Из Вивальди в основном выбраны не самые тривиальные номера (хотя без «Грозы» не обошлось), а играют их со спецэффектами — раскачивают темп, взвинчивают динамику, водят карандашом по струнам клавесина. В Концерте Розауро местами чуть рассыпаются синкопы, но в целом играют его ярче и драйвовее, чем сам автор в доступных записях. В сольных пьесах Главатских демонстрирует отменный грув, исходящий из инструмента и его звуковых достоинств, а не из абстракций нотного текста. Аутентичные этнические флейты звуком и материалом напоминают сошедшую с ума шарманку. Фолк-тексты транслируют мифы о золотом веке и прославляют народную мудрость, которая одерживает верх над этой вашей высокоумной ученостью. Рядом звучит музыка Эдисона Денисова, математика по образованию, и сопоставление рождает дивный юмористический эффект — кажется, незапрограммированный.





Аутентичные этнические флейты звуком и материалом напоминают сошедшую с ума шарманку. Фолк-тексты транслируют мифы о золотом веке и прославляют народную мудрость, которая одерживает верх над этой вашей высокоумной ученостью
Всю дорогу ждешь какого-нибудь взаимодействия между разными родами музыки — например, на основе повторяющихся паттернов, из которых здесь так или иначе строится все. Но номера просто механически приставлены друг к другу, алхимический брак между ними не случается. Впрочем, у них неплохо выходит друг другу мешать. Этнические импровизации, где минут по десять повторяется буквально одна и та же короткая фраза, без изменений и без развития, на фоне вещей с более высокой плотностью музыкальных событий утомляют гораздо сильнее, чем могли бы в других условиях. Публика слушает их сначала с интересом, потом с недоумением, а ближе к концу — вздыхая и ерзая на стуле. Главатских на творческой встрече защищается аргументами в духе Кейджа: я знаю, что это раздражает, если вам скучно слушать, послушайте еще, и в какой-то момент вам станет интересно. Но «послушать еще» как раз не дают — как только втягиваешься в медленное архаическое время, оно исчезает, и начинается очередной номер с более привычным синтаксисом. Спорить не хочется — проще дотерпеть до конца и отправиться на следующий концерт.
***
Сразу после «Времен 300» в «Триумфе» выступает Московский ансамбль современной музыки, и это, пожалуй, самое (или даже единственное) эстетически левое событие в фестивальной программе. Идея концерта формулируется в манере доклада на научном симпозиуме: «Некоторые способы работы с текстом у российских композиторов группы пятидесятилетних». Среди пятидесятилетних неожиданно обнаруживаешь Алексея Сысоева (он родился в 1972 году, но в музыке выглядит моложе лет на десять), а среди российских — резидента Дома Радио Андреаса Мустукиса (который родился на Кипре, но учился в Петербурге). Днем у МАСМа была репетиция, где титры не помещались в экран, сгорала звуковая карта и в целом происходили обычные при подготовке любого мультимедийного концерта микрокатастрофы. Вечером все работает как надо.



Мустукис на авторском концерте двухлетней давности выглядел адептом сатурализма — музыки агрессивной, шумной и скрипучей. В этот раз все строго наоборот: красивые лирические перезвоны по мотивам стихов Аполлинера, собранные в цикл из четырех одинаковых частей. В видеоряде — красивые обнаженные тела, красивая природа, красивое искусство, красивые девушки ходят по кругу со свечечками в руках в красивых развалинах. Сентиментальная чувствительность и конвенциональная эстетика. Публика, конечно, глубоко тронута и устраивает автору овации. Чуть позже в соцсетях появятся исповеди зрительниц, у которых буквально со второй ноты полились «горячие девичьи слезы, про жизнь, про смерть, про время, про детство, про все ускользающее, сбывшееся, несбывшееся, нежное, мягкое, рождающееся, живущее и умирающее, про все, что будет и чего не будет уже никогда». Всем бы нам такое умение вчитывать в музыку свои переживания.
В видеоряде — красивые обнаженные тела, красивая природа, красивое искусство, красивые девушки ходят по кругу со свечечками в руках в красивых развалинах

Следом за Мустукисом играют пьесу Владимира Раннева на подлинный текст из социологического сборника «Рукописный девичий рассказ». Текст упоителен и неподражаем и сам по себе — жестокий романс, разбежавшись-прыгну-со-скалы, несчастная любовь, девичья гордость, все умерли — но эффект дополнительно усиливается тем, что стилистически текст в точности совпадает с писаниями восторженных поклонниц Мустукиса. Концерт оказывается ироническим автокомментарием к самому себе — блестяще! У Сысоева же все всерьез: композиция написана на текст Бориса Вильде — русского эмигранта во Франции, участника движения Сопротивления, расстрелянного нацистами в 1942 году. В его предсмертном письме к невесте переживание любви сплетается с экстатическим принятием смерти: вагнеровская Liebestod, только напрочь лишенная романтического флера. В музыке тоже нет риторики — хоть немецкой, хоть французской, — а есть мучительно медленно текущее время и тонкая ткань реальности, которая рвется и постепенно исчезает где-то в вышине.
***
Типичный дягилевский график — три-четыре больших выступления за вечер; в более обычных условиях каждое из них могло бы стать культурным событием в своем праве. Площадки разнесены в пространстве, приходится бегать между ними и временами опаздывать; в фестивальных соцсетях регулярно интересуются, не получится ли задержать начало. По пути в Дом Дягилева располагается среди прочих караоке-клуб с гордым слоганом на дверях: «Можно все, кроме шансона». Мысленно присваиваю Перми звание города высокой культуры — но вообще, ребята, поздно, шансон уже победил. Он даже не будет с вами сражаться, а просто обойдет, окружит и принудит к сдаче.
«История солдата» стартует на пару минут раньше, чем удается добраться до места, но ничего ценного, кажется, я не упустил. Впечатление получается неожиданно сильное. В окружении сложносочиненных перформативных событий концерт солистов musicAeterna и чтецов из питерского БДТ выглядит едва ли не декларацией — то ли консервативности, то ли минимализма. Здесь нет сложного света, декораций, танцев или вставок чужеродного материала. Люди просто играют музыку и читают текст, и оказывается, что если сделать то и другое тщательно и с самоотдачей, то больше ничего и не нужно. Пожалуй, единственный недочет — нигде не указан автор перевода (официально «История солдата» вроде бы на русском не издавалась). В остальном все прекрасно: Стравинский играет в демократичное искусство, в сюжете прослеживаются легкие оккультные намеки, черт пляшет на колокольне. Выхожу наружу и удовлетворенно бегу на набережную, где вот-вот начнется финальный перформанс этого длинного дня.
Люди просто играют музыку и читают текст, и оказывается, что если сделать то и другое тщательно и с самоотдачей, то больше ничего и не нужно
«Поэма горы» — проект амбициозный, хотя и немного без царя в голове. На предваряющей премьеру встрече со зрителями авторы признаются, что сами не знают, кто у них главный — режиссер, хореограф, художник или композитор. Видимо, по очереди. Перформанс, объясняют они, происходит ночью, потому что это не просто спектакль, а ритуал перехода: полночь — время, когда духи проникают в наш мир через щелку, но за тьмой последует рассвет, и именно летом в Перми с ее белыми ночами это можно наглядно увидеть. Спектакль, впрочем, начинается по расписанию в час ночи, а в реальности еще минут на тридцать позже, так что у духов достаточно времени, чтобы спрятаться обратно до начала всякого экзорцизма.


На набережной холодно. В свете лучей мотаются ошалелые ночные бабочки и ликующие комары. Народный ансамбль в сплющенных черно-красных костюмах, напоминающих карты из «Алисы в Стране чудес», водит хороводы наверху. Склон холма покрыт травой — прямо на нее проецируют стихи Цветаевой, по ней же спускаются перформеры, катясь и вымазываясь в грязи. Мимо проезжают товарные поезда, на трассе гудят басами автомобили, но у нас есть и свои суббасы. Саундтрек, баян и низкие духовые выдают качественный тягучий дабстеп в фирменной композиторской манере Димы Мазурова — по замыслу авторов это, кажется, «звук горы». Главных героинь раздевают и одевают, из мусорных мешков достают игрушки и ленты — это «мусор воспоминаний». Позже газон накрывают длинными полотнищами черной клеенки и ложатся на них — это наверняка тоже что-нибудь символизирует.



Склон холма покрыт травой — прямо на нее проецируют стихи Цветаевой, по ней же спускаются перформеры, катясь и вымазываясь в грязи
В диалог с поэтическим текстом перформанс, по сути, не вступает — это не критический комментарий, не полемика и не заметки на полях, а скорее раскраска, книжная иллюстрация. Цветаева была склонна к гиперболизации и каждую свою любовную авантюру описывала как катаклизм мифологического масштаба — отсюда в ее стихах постоянная взвинченность без тени самоиронии. Эту экзальтированную интонацию мы и слышим в читке; сразу вспоминаются проходившие в прошлые годы здесь же, на фестивале, проекты памяти Целана или Бодлера. Кажется, складывается феномен «дягилевского перформанса» — и это не то чтобы на сто процентов комплимент. У «Поэмы горы» те же структурные проблемы, что были у «Времен 300» несколько часов назад — элементы спектакля механически составлены вместе без руководящей идеи. Задача выудить смысл из сочетания компонентов возлагается на зрителя, хотя зритель, может, как раз хотел бы послушать, что ему умные люди расскажут, а не просто посмотреться в зеркало. Фолк-хор моментами кажется остро ненужным. Все происходит не спеша, как будто если действия совершать медленно, из этого сам собой получится ритуал. К половине третьего ночи, когда температура окончательно падает, эта неторопливость начинает слегка бесить — но тут, к счастью, зрителям предлагают на прощание самим подняться по склону холма, и замерзшие конечности перед уходом ко сну удается размять.
До судоверфи, где показывают «Персефону.До», можно добраться и на такси — но съездить на пассажирском автобусе в разы познавательнее. Сразу после моста через Каму начинается пейзаж типичной окраины большого города — пустыри, рощицы, развязки, автосалоны, склады и автосервисы. Еще несколько остановок спустя к шоссе с обеих сторон подступает сосновый бор. В 60-е годы примерно так представляли себе город будущего: природа, доступный транспорт и локальные точки притяжения. Не хватает роботов-уборщиков и погодных установок — и людей, конечно, ориентированных на научный прогресс и свободный поиск. Вместо утопии мы видим по сторонам остановочные комплексы, установленные, судя по дизайну, во времена Гельмана и «пермского возрождения». В надлежащем виде их никто не поддерживает — трещины, ржавчина, полустертые буквы и покосившиеся крыши. В лесу упрятаны разрозненные жилые микрорайоны, естественным образом инкапсулированные каждый в собственном микромире. Чем живут здесь люди? Интересуют ли их модернистские игры в барокко и перформативные практики? На обратном пути удается спросить у водителя такси, ходит ли он на фестиваль. Разумеется, нет — утром на работу рано, ночью с работы поздно, успеть бы поспать.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
ОТ СУДОВЕРФИ ДО ТРИУМФА
ДЕНЬ 2
Выхожу около ржавых ворот стадиона с символическим названием «Авангард» и остаток пути к судоверфи иду пешком. На площади возле входа застыло неопределенное советское время. Памятник Ленину в скукоженной позе, но со свежими цветами. На постаменте корабль, который карта определяет как «Бронекатер АК-454». На фронтоне здания выцветший плакат сталинского дизайна — статный гражданин в военной форме держит на руках улыбающуюся девочку с цветами. Надпись на плакате гласит: «Пермь. Клянемся помнить». Речь, ясное дело, не про формулы расчета водоизмещения.
После проходной — примерно та же зелень с вкраплениями промзоны. В траве попадаются металлические фермы и какие-то ржавые механизмы. На точке отправления всем раздают наушники и приемники — нас ждет спектакль-бродилка. В ожидании опоздавших некоторое время слушаем закольцованный фрагмент интервью Стравинского с Крафтом, а когда все оказываются в сборе — выходим на прогулку по территории. Перед нами медленно открываются массивные двери большого здания размером с самолетный ангар, но внутрь не ведут. Сначала об этом жалеешь, а позже забываешь, поскольку следующие локации ничем не хуже — особенно финальный ржавый корабль на вечной стоянке под вывеской «Монтажно-сдаточный цех № 19». Авторы спектакля утверждают, что следовали за сюжетом «Персефоны» и, пожалуй, имеют для этого основания — здешние полузаброшенные пространства в самом деле способны на время вытолкнуть гостя из повседневной реальности, а потом вернуть назад.



В наушниках всю дорогу звучит саундтрек композитора Рубена Антоняна. Поначалу его стиль кажется слишком популярным, но позже автор переходит к работе с тем, что ему нравится, — аналоговые модульные синтезаторы, микротональные дроны, мясистые басы — и выходит прекрасно. Поверх музыки актеры читают тщательно подобранные высказывания Стравинского из интервью и «Хроники моей жизни» — о памяти, одиночестве, смерти, творчестве, а также подробно о «Персефоне» и Симфонии псалмов. Авторы не стали ничего досочинять от себя, а просто дали зрителям возможность пообщаться, пускай и в одностороннем порядке, с умным человеком — и это самая большая удача всего проекта. Центральную часть спектакля мы проводим в кресле у озера; мимо по рельсам медленно уходит в воду железная платформа, вдалеке в лодке проплывают местные жители. Включив фантазию и слегка отрешившись от окружения, легко представить себе разговор тет-а-тет со Стравинским где-нибудь в Швейцарии, за столиком кафе на набережной. Все это похоже на еще одну встречу в фестивальном клубе — просто в силу ряда обстоятельств проходит она в такой вот необычной форме.
Авторы не стали ничего досочинять от себя, а просто дали зрителям возможность пообщаться, пускай и в одностороннем порядке, с умным человеком — и это самая большая удача всего проекта
***
На пути обратно от судоверфи в центр застреваю в пробках — все правильно, выбраться из потустороннего мира и должно быть сложнее, чем туда попасть. В Органный зал филармонии тем не менее удается приехать вовремя. Пианист Алексей Зуев выступал на Дягилевском дважды (Piano-Gala в 2017 году и Canto Ostinato годом позже), но сольный концерт играет здесь впервые. Технически он компетентен и более того — вполне виртуозен: «Жар-птица» Стравинского и симфония Бетховена кажутся в его руках вещами несложными, хотя это, мягко говоря, не так. Манера игры у Зуева романтическая, с обильной педалью, мягким туше, сглаженной динамикой и нестрогими темпами. Лучше всего она подходит к «Жар-птице», хуже всего — к Бетховену. Вспоминается финн Йоонас Ахонен, который два года назад в этом же зале превратил «Вариации на тему Диабелли» в панк-клоунаду. Из-за своего уникального исторического положения на границе между старой и новой музыкой Бетховен по умолчанию считается как бы ничейной территорией, на которой каждый имеет право хозяйничать по своему усмотрению. Но на деле оказывается, что для его музыки уместна не всякая манера. Романтического Баха мы уже почти не слышим; возможно, романтическому Бетховену тоже пора уступить место другим, более исторически информированным (или более авантюрным) образцам.
По пути на вечернего Генделя успеваю забежать в Парк Горького, где программа фестивального клуба обещает перформанс на колесе обозрения. В пятницу вечером в парке полно гуляющих, выступают уличные музыканты, из динамиков гремит Меладзе, а в лавках продают бельгийские вафли. Перформанс называется «Слегка касаться земли» и тоже проходит в наушниках. На этот раз нам не везет — текст состоит из эталонных благоглупостей. У нас есть чувства, чувства у каждого свои, мир строится на вечных законах, цените то, что живет в настоящем, цените самих себя, за чувствами скрыты настоящие мы, истинные души, которые точно знают, чего хотят, каждый мечтает познакомиться с собой, что сейчас ощущает ваше тело, что вы чувствуете, когда вдыхаете запах леса, а что — когда запах гари и т.д. Нормально развивающийся человек должен бы успеть поразмыслить обо всем этом годам к десяти. Периодически нас о чем-то спрашивают и, надо полагать, ждут, что мы хотя бы задумаемся над ответом. Но на раздумья нет времени, голос после секундной паузы тараторит дальше: похоже, авторам не слишком интересны то ли наши ответы, то ли даже и сами вопросы.
***
«Триумф времени и разочарования» дают в Оперном театре — можно углядеть в этом историческую иронию, если вспомнить, что оратории в Риме сочинялись как раз взамен опер, запрещенных папским эдиктом. Зал полон. Среди зрителей попадаются смутно знакомые лица — музыканты musicAeterna и местные меломаны. Оркестр разыгрывается как будто Стравинским — или, скорее, это Стравинский похож на барочную музыку, к которой подмешали настройку оркестра. Практически этот же состав несколько дней назад играл Барокко-гала — минус один солист, которому в партитуре Генделя не нашлось роли, и плюс Андрей Немзер в качестве приглашенной звезды — так что интрига еще и в том, как они справятся с крупной формой, а не со сборником арий. Впрочем, если подумать, барочная оратория и есть сборник арий, так что интрига мнимая.



Пока поднимается занавес, из динамиков звучат чьи-то монологи о красоте. Декорации воссоздают некий греко-римский символический антураж — амфитеатр, портик, драпировки, несколько колонн, на месте одной из них скелет, в углу горкой лежат черепа. Задник изображает то ли гору, то ли кратер — вулканический или, может быть, лунный? Над ним вместо неба серебристо-черные помехи. Дизайн довольно китчевый и наводит на мысль, что основная опасность для красоты исходит на самом деле не от времени. Возможно, декорации задумывались как комментарий к барочному стилю, но барокко, вопреки распространенному заблуждению, не равняется китчу. Хотя он, конечно, оттуда растет — как и вообще вся современная визуальность.
Под увертюру персонажи разыгрывают пантомиму, и это первый тревожный звоночек — пластика у них несколько клоунская, как в дешевых гэгах или студенческих этюдах младших курсов театрального вуза. Героине скучно, она пытается заигрывать с двумя героями. Кто они все, не очень ясно — возможно, боги, и поэтому живут в таком странном месте? Под медленную часть увертюры на сцену выносят гроб; трое, видимо, решают разыграть комедию и воскрешают ту, что в нем хранилась, — это наш центральный персонаж, Красота. Она оказывается старухой и, очевидно, успела умереть еще до начала действия. Смысловое ядро оратории (стоит ли задуматься об увядании красоты и о своей посмертной судьбе уже сейчас или пока понаслаждаться жизнью?), таким образом, оказывается убито в зародыше.

Под медленную часть увертюры на сцену выносят гроб; трое, видимо, решают разыграть комедию и воскрешают ту, что в нем хранилась, — это наш центральный персонаж, Красота. Она оказывается старухой и, очевидно, успела умереть еще до начала действия
Происходящее далее больше всего похоже на спектакль, который, наверное, сделал бы Марк Захаров, вздумай он поставить барочную ораторию. Постановочные жесты настолько эффектны сами по себе, что почти бессмысленны. Возле визуальных символов не хватает разве что большой неоновой надписи «я визуальный символ». Миманс, одетый в невнятные разношерстные наряды (выделяется крестьянского вида мужик с окладистой бородой и в шапке набекрень), непрерывно чем-то занят и куда-то перемещается по сцене, ускоряясь на быстрых ариях. Наслаждение иллюстрируется эротичными танцами в коже, руками, приделанными к зоне декольте, массовыми оргиями и рок-концертом. Красоту в ее стремлении к удовольствиям сдерживают, кроме гроба, инвалидной коляской и смирительной рубашкой. Во втором акте боги играют в карты — причем, если присмотреться, в дурака. Время ходит в темных очках с круглой оправой, как вампир из фильмов категории Б, и изображает шахматные часы. С Красоты снимают кожу, а к ее голове присоединяют электроды и сканируют мозг, после чего следует видео, изображающее разные формы наслаждения, от секса до рекламы кофе. У роз отрезают бутоны. Крупно показывают кишащих червей. Играют в шахматы будильниками. В качестве кресла и подставки под столешницу используют живых актеров (все тот же многострадальный миманс). В конце ломают четвертую стену и выводят из зала на подиум подсадного зрителя.

К плюсам постановки можно отнести то, что смотреть ее не скучно — другим режиссерам идей не хватает и на час, а здесь незаметно пролетают три. Но в какой-то момент перенасыщенный театральный раствор выпадает в осадок, и его частицы начинают жить собственной жизнью. На коляске из первого акта во втором катаются все подряд. Немзер в роли Разочарования поет арию, держа в руке утюг, а потом гладит им платочки — неясно, зачем, поскольку они все равно остаются помятыми. Время и Разочарование открывают Красоте зеркало истины, которое изображает флагелляцию — хотя вообще-то самобичевание давно проанализировано как форма мазохистского наслаждения, и следует задаться вопросом, на чьей стороне зеркало играет на самом деле. Случаются и приступы истерического смеха — хотя, кажется, не всегда там, где это задумывалось. Во второй арии от начала Красоту, вроде бы только что воскрешенную с далеко идущими целями, зачем-то начинают заколачивать обратно в гроб. Она, естественно, сопротивляется. Сложно не вспомнить в этот момент знаменитый эпизод Bring Out Your Dead из Монти Пайтона — или популярный анекдот про экипаж самолета на необитаемом острове.
В музыкальном смысле все, может, и не идеально, но вполне приемлемо. Звук из ямы сначала кажется мутноватым, без барочной резкости контуров — но к нему получается привыкнуть. Темпы местами головоломные: с колоратурами не справляются не только солисты, но и оркестранты. У кое-кого из певцов проседает нижний регистр и временами наблюдаются трудности с озвучиванием нот в пассажах. Но это все придирки — музыку здесь, в общем, можно послушать не без удовольствия. С историей сложнее. Вроде бы ее собирались приближать к современному зрителю — и материал, если вдуматься, чрезвычайно в этом смысле благодатный. Сюжет «Триумфа» рассказывает о победе религиозного фундаментализма над человеческим естеством. Кшиштоф Варликовский, к примеру, прямо называет ораторию догматической, а идеологическую основу ее либретто — шокирующей. Под текстами, которые поют Время и Разочарование, подпишутся радикальные представители практически любой из существующих в наши дни конфессий. Получается, возможности для серьезного разговора были — но вместо него мы увидели серию цирковых аттракционов. Считать ли такой обмен равноценным? Оставим этот вопрос без ответа.
День проходит в ожидании вечерней премьеры. Лекция Светланы Савенко о мифах и ритуалах у Стравинского собирает заслуженный аншлаг, а в концертном зале «Триумфа» под музыку автора «Персефоны» играют в пинг-понг. Наблюдать за играющими неожиданно увлекательно. Музыка Стравинского предельно дансантна и подходит под любые ритмичные телесные действия. Кроме того, скромный теннисный турнир позволяет взглянуть под новым углом чуть ли не на всю фестивальную программу. Дягилевский (и особенно программа фестивального клуба) полон перформансов: партиципаторных, кросс-жанровых, сайт-специфических, аудиовизуальных — но чаще, чем хотелось бы, перформанс оказывается просто спектаклем необычной формы. Актеры действуют не сами по себе, а кого-то изображают — хотя между doing и showing doing, перформансом и театром, вообще-то есть фундаментальная теоретическая разница. Созерцание людей, просто стучащих мячиком по столу, на этом фоне становится весьма освежающим опытом. Игроки ничего не демонстрируют, а просто существуют, в строгом соответствии с концепцией everyday performance Эрвинга Гоффмана. Нужен ли вообще перформансу зритель или, скажем, нацеленность на зрителя? Или достаточно осознанно проживать происходящее? А может, осознанность — это работа на внутреннего зрителя? Он такой же, как тот, что снаружи, — или они отличаются? Чем именно?
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
ПЕРФОРМА-ТИВНОСТЬ И ПЕРСЕФОНА
ДЕНЬ 3
Созерцание людей, просто стучащих мячиком по столу, на этом фоне становится весьма освежающим опытом



Петр Главатских на своей творческой встрече оказывается бойким рассказчиком с простыми манерами и кое в чем сомнительными взглядами. «Я думал, думал, прикидывал, но передумал». «Хоп-хоп-хоп, барабан чуть по винтикам не разобрали». Минут за сорок он успевает поговорить обо всем на свете. Современным партитурам часто не хватает связи с землей, а ударные эволюционировали меньше других инструментов и через них эту связь проще ощутить. Европейская культура игры на ударных только зарождается — в отличие, например, от Индии, где ей несколько тысяч лет. Весной в Перми не играют на дудках, потому что старые рассохлись за зиму, а новые не успели вырасти. В проекте надо придумать все заранее, до начала репетиций, а если режиссер приходит в театр и начинает экспериментировать на актерах, это плохо для всех. Сергей Старостин боялся, что в новом поколении фолк будет некому играть («мы умрем — и никого не будет»), а фолка внезапно стало очень много. Денисов написал лучшую книгу про ударные в оркестре и лучшую пьесу для вибрафона. Маримбе не нужен красивый звук, учиться надо на партитурах Ксенакиса, а женщины интуитивно тянутся к дисциплине.
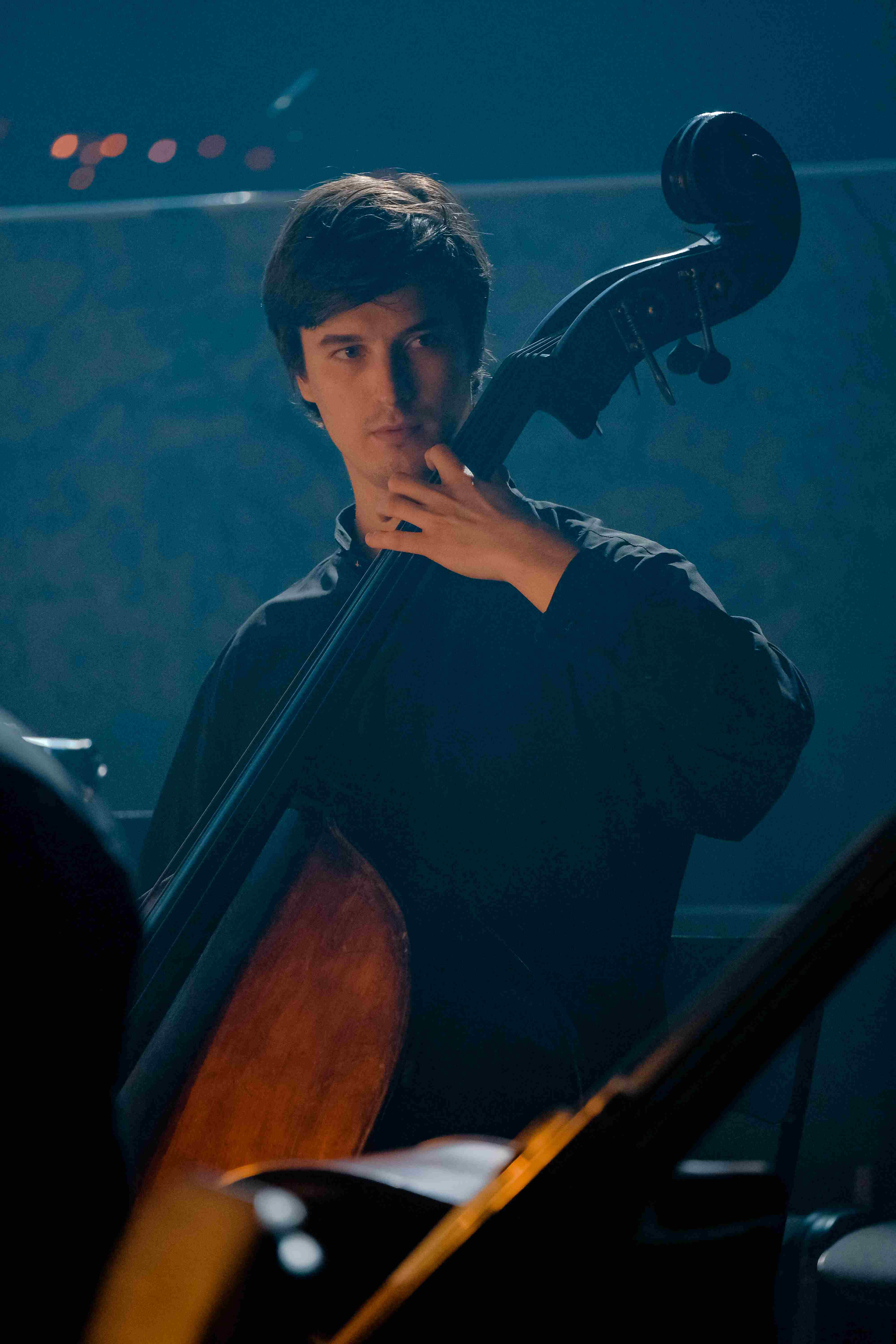


Успеваю ненадолго забежать и на балет для бабушек: хор местного ДК в национальных костюмах, юные танцоры в кэжуале, под потолком висит экранчик с абстрактными рисунками. Бабушки поют народные песни под аккомпанемент баяна и бас-балалайки; танцы поставлены, кажется, даже тщательнее, чем этому проекту было нужно, и могут служить еще одним доказательством известной истины — contemporary можно танцевать под все.
Параллельно в Органном зале начинается концерт струнного квартета. Зал неполный, и это огорчает, потому что играют отменно. Программа из сочинений чешских композиторов, погибших в концлагерях, для кого-то наверняка оказалась сложновата — чехи в межвоенный период писали эталонную модернистскую музыку. В первом промежутке между частями зал сидит тихо, но не успеваешь порадоваться за подготовленную пермскую публику, как в следующей паузе начинают хлопать — и дальше аплодируют каждый раз, даже когда части идут без перерыва или когда характер музыки явно намекает, что после окончания не помешало бы немного тишины. Музыкантам это доставляет явный дискомфорт, но они не протестуют. Возможно, зрители просто привыкли к опере? Классическая музыка, как известно, состоит из нескольких практик слушания, мало чем похожих друг на друга, у каждой своя история и свои правила поведения. Заметка самому себе: подумать на досуге, почему мы стесняемся аплодисментов между частями в концертном зале. Все-таки авторы сами предписали эти разрывы — и отчего бы слушателям не показывать в них себя?
***
«Персефону» и Симфонию псалмов играют в Доме музыки — это тот же самый цех Литер А завода Шпагина, что и в прошлые годы, только с новым названием. У входа атмосфера светского приема — платья со стразами, акты взаимного восхищения, коллективные фото, прически и шляпки а-ля Великий Гэтсби. Начинать никто не торопится: в девять вечера, когда по расписанию должно начаться действо, на улице стоят человек сто, включая оркестрантов. Внутри выстроили гигантскую сцену и огромный ступенчатый партер. На сцене уже сидит шаманка Вера Сажина в роли инфернальной старухи (кажется, это Деметра), за ней смутно горят темным пламенем какие-то багровые формы. Похоже, сценические решения, сложная подсветка, заводской антураж и т.д. стали новой нормой; амбициозный концертный проект теперь должен выглядеть так, просто сыграть музыку в условной филармонии уже недостаточно.

Похоже, сценические решения, сложная подсветка, заводской антураж и т.д. стали новой нормой; амбициозный концертный проект теперь должен выглядеть так, просто сыграть музыку в условной филармонии уже недостаточно
Разумеется, в зале тотальный аншлаг, публика сидит даже на ступеньках. Выходу хора и оркестра хлопают на удивление жидко, зато главного дирижера встречают предсказуемыми овациями. Перед началом Курентзис лично берет в руки микрофон, чтобы попросить отключить телефоны, а еще лучше совсем отложить их в сторону — иначе опыт погружения будто бы не состоится. Мотто дня: сохраняйте впечатления в памяти, а не в телефоне. Так и сделаем. Давайте начинать.

Вечер неожиданно открывается сочинением главного дирижера. В буклете об этом ни слова — видимо, решение было принято уже после того, как его сдали в печать. На сайте фестиваля читаю, что увертюра посвящена памяти Германа Виноградова и написана на текст из трагедии Эсхила «Прометей прикованный» и собственные стихи Курентзиса. Озаглавлена она «Стасимон»; Аристотель пишет, что в трагедиях так называли номера, исполняемые неподвижным хором. Когда дают свет, сцена открывает впечатляющую, почти кинематографического качества декорацию с неким пейзажем, пасторальным, но будто осложненным внутренней драмой. Вроде бы травка, цветы, холмы и деревья — но дерево высохло, на холме видны кладбищенские камни, а цветы — ядовито-красного оттенка. В первые минуты ловишь синдром Стендаля и отчетливое ощущение театра как второй реальности; позже это проходит. Музыка у Курентзиса тоже кинематографическая и, к сожалению, сильнее, чем хотелось бы, похожая на обычный блокбастерный саундтрек. Впрочем, голливудские композиторы мыслят практически и экономно, а здесь использован огромный состав, вплоть до инструментов Бикапо конструкции того самого Германа Виноградова. Не все задействованы равномерно, кому-то достается всего несколько тактов, но в целом гигантский музыкальный ресурс расточается щедро, уверенной лидерской рукой — оркестровый перформанс как ритуал потлача.

«Персефона» поставлена масштабно и со вкусом. Фоновый видеоряд, проработанный свет, большие многофигурные мизансцены, полеты, погружения под землю, клубы дыма и прочая машинерия. Хор теней в Аиде напоминает зальцбургского «Дон Жуана» Кастеллуччи. В танцах, говорят, угадываются Пина Бауш и Бронислава Нижинская. Айсылу Мирхафизхан, исполнительница главной роли, обладает красивым низким голосом, говорит на хорошем французском и обладает гибкой пластикой, позволяющей ей исполнять сразу две роли — чтицы и танцовщицы. Играют и поют блистательно — в музыкальном смысле это, безусловно, событие, которое, кажется, мало кто заметит за внешним действием, а жаль! Вся постановочная команда работает с полной отдачей — в результате из всего, что я успел увидеть в Перми, «Персефона» демонстрирует, пожалуй, наиболее высокий художественный уровень.
Не обошлось и без сомнительных деталей. Перед началом можно было делать ставки — будут ли персонажи по ходу действия кричать и дергаться в конвульсиях. Будут. Во втором акте на авансцену зачем-то выносят ковер и рубят плоды граната топором. В третьем на месте кладбища оказываются инкубаторы для недоношенных детей и какие-то стандартного вида ученые в халатах. Эвмолп несколько раз по ходу действия падает будто замертво, но потом как ни в чем не бывало встает. В Аиде посреди спектакля начинаются игры и танцы, хотя нас вроде бы пытаются убедить, что тени там страдают. Третий акт проходит в пещере; хор, танцоры и дети образуют несколько рядов и держат перед собой горшки с рассадой; в какой-то момент происходящее начинает настолько сильно напоминать «Скалу Фрэгглов» Джима Хенсона, что от этой непрошеной ассоциации невозможно избавиться.


Сложно сказать, какой мерой креативной свободы обладала режиссер спектакля Анна Гусева. Смогла бы она осуществить постановку, полемическую по отношению к исходному замыслу? Кажется, вопрос риторический. «Персефона», как и прошлогодняя «Комедия о конце времени» Орфа, для внешнего наблюдателя выглядят проектами лично Курентзиса, который последовательно строит в Перми и Питере свой личный Байройт, только на основе греческой мифологии, а не немецкой. Как и остальные участники перформанса, он относится к происходящему всерьез, без тени иронии — и наверняка считает, что зрителям стоит чаще видеть модернизированные элевсинские мистерии. Зрители, в общем, и не против — во всяком случае, пока им разрешают оставаться в роли наблюдателей. Что бывает, когда современный человек выходит из этой роли и оказывается полноправным участником традиционного ритуала, всем заинтересованным несколько лет назад рассказали в хорошем фильме Midsommar.
«Персефона», как и прошлогодняя «Комедия о конце времени» Орфа, для внешнего наблюдателя выглядят проектами лично Курентзиса, который последовательно строит в Перми и Питере свой личный Байройт, только на основе греческой мифологии, а не немецкой
***
Мотивы объединения «Персефоны» и Симфонии псалмов в один проект так и остаются не до конца ясными, поэтому проще отнестись ко второму отделению как к отдельному зрелищу. Визуальная символика здесь предсказуемо христианская — мальчики из хора в белых балахонах стоят со свечками вдоль длинных белых столов, повторяют жесты с фресок о Тайной Вечере, а в третьей части с теми же свечками в руках бегают по сцене (с церковными свечами так вроде бы делать не принято, но допустим). В глубине между столами на экране возникают крупные планы лиц музыкантов из musicAeterna. Лица изображают сначала отчаяние, в во второй половине радость. Выглядит это странно и моментами неуютно — особенно радость, поскольку у всех она получается мимически разная и несводимая к единому корню: один тихо улыбается, другой веселится как на стендапе, а третий будто балансирует на грани эротического возбуждения.
В музыке тоже не без проблем. Действовать она пытается, скорее, скоростью, мощью и пафосом, чем тонкостью и деталями — а это во многих случаях признак того, что что-то идет не так. Предлагаемый Стравинским в предисловии к партитуре выбор между женщинами и мальчиками решили не делать, взяли и тех, и других. В результате хор несбалансированно велик — в первой части он местами перекрывает оркестр, а когда начинается фуга, одинокие духовые, оставшись без хоровой поддержки, звучат откровенно жидковато. Сценическое действие не дает толком сосредоточиться на музыке, при этом складывается впечатление, что ради происходящего на сцене все и было затеяно. Обсуждать интерпретацию и в целом музыкальные параметры исполнения поэтому, кажется, нет смысла. Звуковые качества здесь принесены в жертву посланию; если что-то в них поменять, содержание происходящего существенным образом не изменится. Музыка из автономного искусства снова превращается в прикладное и выполняет функции, от которых когда-то пыталась эмансипироваться.

Возможно, это и есть финальный урок Дягилевского: в ряду искусств самым уязвимым оказывается искусство музыкальное. Синтез возможен, но ко всем его компонентам следует относиться одинаково бережно. Музыку не стоит ограничивать служебной ролью в разговорах о мифе, ритуале, духе и величии. Она способна на большее. И если мы об этом забудем — есть риск, что некоторые краснокнижные музыкальные виды будут потеряны для нас навсегда.




