Музыка
нас связала
ФОТО:
АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
В издательстве Ad Marginem вышел долгожданный перевод
книги «Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп-поколения» Джеффа Чанга — летописи хип-хопа и его связей с американской политикой и обществом. По просьбе The Blueprint музыкальный критик Александр Глазков рассказал про нее и выбрал еще девять важных книг о самой разной музыке: София Губайдулина в этой подборке соседствует с Джорджо Мородером, а песня «Бухгалтер» — с композицией Californication.
(1)
Джефф Чанг
«Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп поколения»
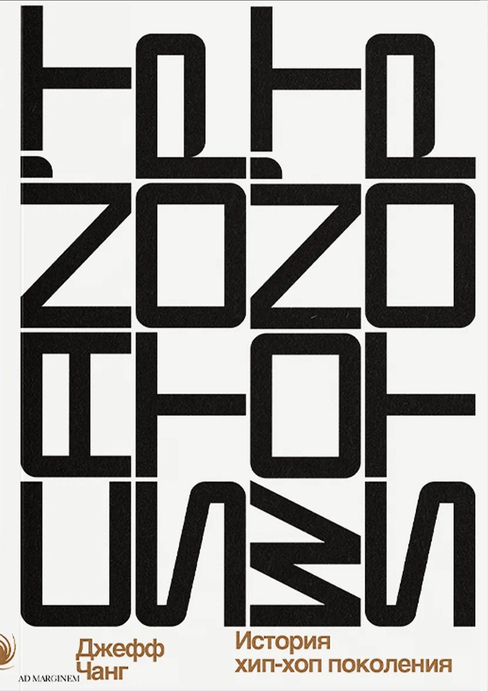
Хрестоматийное чтение, чтобы понять, что вообще такое культура хип-хопа. Труд журналиста и историка хип-хопа Джеффа Чанга охватывает временной промежуток с конца 1960-х по 2001 год, во всей полноте раскрывая социополитические тонкости, связанные с формированием молодежи из американских черных гетто.
Истории становления ключевых
артистов здесь соседствуют с полицейским беспределом, безобидный би-боинг
(так раньше называли брейк-данс), — с разборками банд, а политический активизм — с афроамериканской религиозной организацией пятипроцентников. Can’t Stop Won’t Stop... рассказывает о хип-хопе как о сложном и разнообразном мире, который открыт
для всех, кто чувствует себя угнетенным и непонятым, и уже давно выходит за пределы Америки.
В 1983 году команда Дикого стиля ступила на территорию оживленного парка Ёёги в Харадзюку — модном квартале Токио. Они оказались на арене битвы разнообразных поп-стилей. В центре многолюдной столицы Японии царил дух молодежного протеста — бунта поколения. <...> «Через три дня, — добавляет он, — народ в Токио уже вовсю скретчил. Стали появляться подобия граффити. К моменту нашего отъезда они уже с ума сходили от нашей культуры». Город за городом,
страна за страной — мир все больше походил на Планету рока Бамбаатаа.
(2)
Тим Лоуренс
«Любовь спасет мир. История американской диско-музыки 1970-1979»
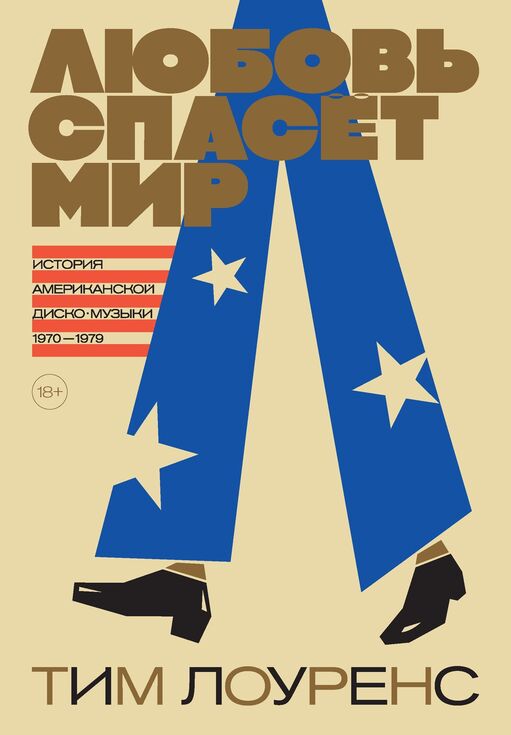
Для постсоветского слушателя сущность диско по большей части определяется европейскими и отечественными записями: кажется, группа «Мираж», немцы Boney M. и шведы ABBA у нас в куда большем почете, чем американцы Village People и Chic. Тем не менее никакое диско не было бы возможно без андеграундной танцевальной культуры Нью-Йорка 1970-х, изучению которой Тим Лоуренс посвятил свою книгу.
От появления в городе первых вечеринок для черных пролетариев с окраин до становления прото-хаус-клуба Paradise Garage прошло порядка 15 лет — рассказ об этом периоде можно было бы превратить в скучное исследование жанровой генеалогии. Но автору книги куда интереснее позволить читателю прожить опыт манхэттенского тусовщика во всех его деталях (вроде того, как сложно было найти вход в клуб Loft), чем концентрироваться на обсуждении звукового опыта. Тем не менее здесь есть десятки (!) трек-листов от легендарных нью-йоркских диджеев, сопровождающих повествование об их «золотом времени» на сцене.
Фактически Сиано утверждал, что Манкузо находился за рамками любого определения диджея. «Там были эти белые огни, 600-ваттные прожекторы, и они были настолько яркими, что могли ослеплять, — рассказывает Сиано. — Твои зрачки расширяются, а затем — бум! — в следующую секунду Дэвид опрокидывает тебя в полнейшую тьму, и ты на мгновение полностью слепнешь. Потом он включал кондиционер, и ты вдруг ощущал освежающую прохладу. Рядом с настольной лампой сидела пара человек, и тут гаснет и эта лампа. Это было настолько-о-о-о-о-о дико, что от этого хотелось орать!».
(3)
Саймон Рейнольдс
«Вспышка энергии: путешествие по рейв-музыке и танцевальной культуре»
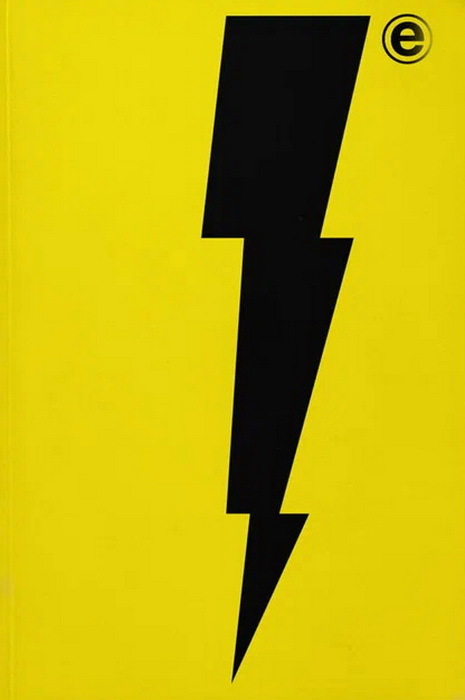
По времени эпохальная работа Саймона Рейнольдса следует сразу за историей диско Тима Лоуренса, но нью-йоркские темы задевает лишь вскользь.
Больше всего патриотичного британского журна-
листа интересует собственная родина в эпоху рейва на стыке 1980-х и 1990-х годов, а то жанровое разнообразие, которое подарила эта эпоха (брейкбит-хардкор, джангл, драм’н’бейс, UK гэридж), он исследует под именем «хардкор-континуума».
Впрочем, происходящее с танцевальной электроникой в остальном мире также не проходит мимо автора — Рейнольдс уделяет особое внимание детройтскому и бельгийскому техно, нидерландскому габба-хардкору, а в последнем переиздании даже упоминает нашего современника, сверхуспешного диджея Скриллекса.
В пуристских, или «хардкорных», танцевальных жанрах искры вспыхивают из трения между инновационными идеями и консерватизмом, между желанием автора двигаться дальше и требованиями танцпола. <...> Непосвященному все треки на хардкор-вечеринке покажутся одинаковыми. Но причина такой предсказуемости не в трусости, а, скорее, в желании создать особый вайб, осмысленное и наполненное чувством настроение, в котором воплощаются мировоззрение и жизненная позиция.
Дэвид Кинан
«Эзотерическое подполье Британии»
(4)
Как Coil, Current 93, Nurse With Wound и другие гениальные сумасброды перепридумали музыку
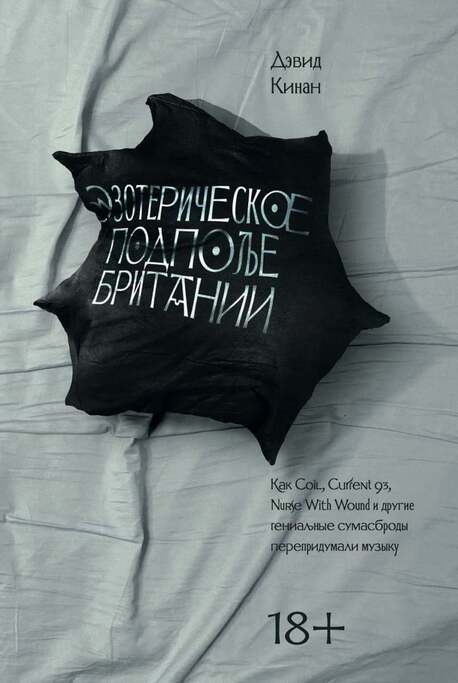
Слово «подполье» находится в названии книги журналиста Дэвида Кинана не просто так — Кинан повествует о культовых фигурах британской музыки 1970–1990-х, которые творили в невидимом для массового слушателя мире. В мире-антиподе вселенной Duran Duran и Oasis — в нем нет никакого света и стадионного воодушевления, зато есть тяга к темному, жуткому и первобытному.
Книга выстроена не в виде строгого линейного описания истории жанра — вместо этого Кинан закидывает читателя разными историями из жизни музыкантов: от того, как у Дэвида Тибета из Current 93 в детстве проявилась религиозность, до творческой эволюции группы Coil. О загадочной музыке нужно писать загадочно.
Чтобы подстегнуть работу с текстом без внутреннего контроля, Слизи и Бэланс начали вести дневники, перед завтраком спонтанно заполняя три страницы, какими бы их идеи ни были: скучными, ребяческими, порочными или саморазрушительными. Так оттачивалась их способность к импровизации, и Бэланс изящно пел свои самые вдохновенные тексты. Следующий этап развития Coil начался прежде, чем они это осознали.
(5)
Алексей Мунипов «Фермата. Разговоры с композиторами»
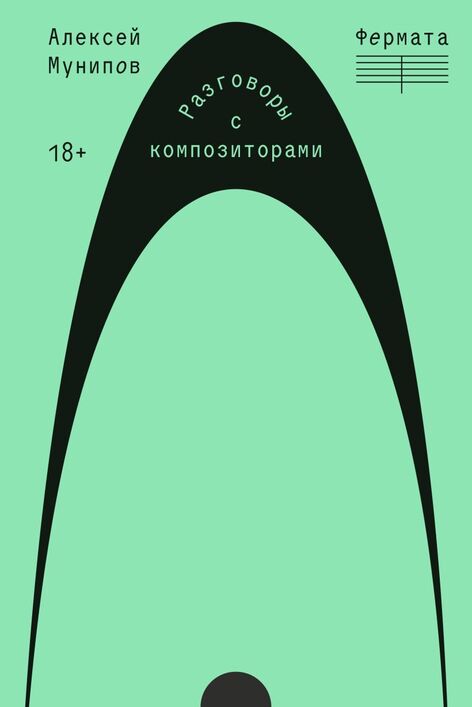
Для многих людей мир советской/российской академической музыки заканчивается где-то на Шостаковиче и Шнитке, а к тому, что было
дальше, просто непонятно, как подступиться.
Если вы встретились с такой проблемой, известный музыкальный журналист и редактор Алексей Мунипов написал «Фермату...» специально для вас. Автор собрал интервью у 20 представителей современного композиторского дела в самых разных точках постсоветского пространства.
Характер получившихся в книге разговоров оказывается настолько непринужденно- «кухонным», что за перемыванием косточек коллег от Владимира Мартынова и обсуждением философии творчества с Александром Кнайфелем видишь в первую очередь человеческий дух интервьюируемого — и знакомство с его музыкой становится занимательным испытанием на тему «Насколько ожидания совпадут с реальностью?».
Один момент придает «Фермате...» особой, трагической актуальности — книга содержит два трогательных интервью с Софией Губайдулиной, недавно почившей великой комбинаторкой математического и интуитивного в искусстве.
[София Губайдулина]: Самый сложный вопрос — это взаимоотношение интеллекта и интуиции в жизни художника. Вообще я на первое место ставлю интуитивный поток. И очень не хочу, чтобы интеллект подавил эту интуицию. Но я отлично понимаю, что художественное произведение не может быть чисто интуитивным. И в идеале интуитивный поток должен сдерживаться интеллектуальным законом. <…> Я надеюсь на то, что трение между интуитивным потоком и интеллектуальным сдерживанием этого потока даст мне нужную энергию. Но это эксперимент. Ну, иногда получается
(6)
Настасья Хрущева
«Метамодерн в музыке и вокруг нее»
Само по себе большая смелость — говорить о метамодерне в серьезном ключе, но Настасья
Хрущева не ограничивает свою монографию одной лишь концептуальной дерзостью. Петербургская композиторка и искусствоведка посвятила значительную часть своей книги исследованию творчества позднесоветских представителей «новой простоты» (Валентин Сильвестров, Владимир Мартынов и др.) через
данную оптику — и находит в их работе то, что, по сути, характерно для многих современных поп-артистов (например, шепчущий ASMR-поп Билли Айлиш схож своим интересом к приглушенной динамике с «Тихими песнями» Сильвестрова).
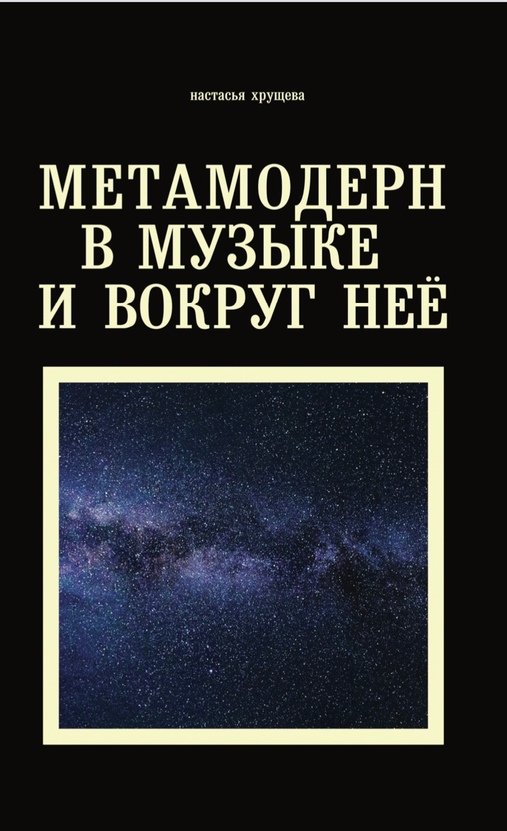
Чтобы не быть голословной, Хрущева сперва описывает метамодерн в целом — и делает это в формате строго структурированных таблиц. Если упрощать — постмодернизм лишил современное общество чувственности, заменив ее иронией, а метамодерн пытается вернуть все обратно. Впрочем, чувственность метамодерна оказывается очень слабой — она исходит из мира, где люди не надеются, что он фундаментально станет лучше, и проживают свои маленькие жизни с их радостями и печалями.
Основной психологический процесс, который запускают Тихие песни [Сильвестрова] в слушателе — это припоминание. Попытка реконструировать забытые мотивы, восстановить незнакомое, “вспомнить” то, что никогда не знал. Это припоминание имеет терапевтический эффект, и начальные строки первой же песни — Болящий дух врачует песнопенье — звучат и буквальным, и метафорическим исцелением: впрочем, античный катарсис предполагал и то, и другое.
(7)
Под редакцией
Александра Горбачева «Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях /1991-2021/»
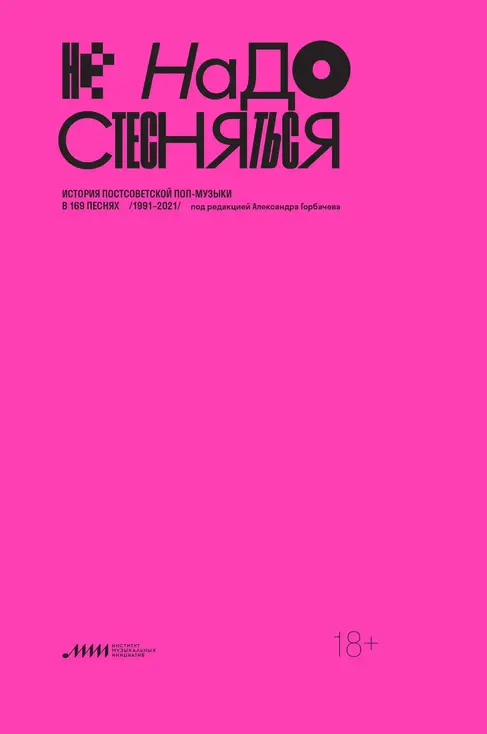
Наверное, главная книга о музыке, вышедшая за последние пять лет на русском языке — под редакцией Александра Горбачева (экс-обозреватель «Афиши» и эксперт премии «Степной волк»). Почти тысяча выстроенных в линейный таймлайн страниц о песнях, спаявших постсоветский культурный код (от треков группы «Кар-мэн» до «Пчеловода» группы RASA). В едином формате — небольшое предисловие, объясняющее исторический контекст, и интервью о песне с авторами/продюсерами/исполнителями на несколько страниц.
«Не надо стесняться...» — это портал на внутреннюю кухню отечественного
шоу-бизнеса. Герои книги открыто рассказывают занимательные истории: от Ольги Лаки из группы «Вирус», сетующей на нищенский гонорар в 50 долларов за выступление (и это в звездные времена), до Филиппа Киркорова, хвастающегося тем, как к нему тянется молодежь.
[Шура о «Ты не верь слезам»] Мне иногда смешно вспоминать 1990-е. Я пробовал сменить образ, пытался петь в мужских костюмах — но нет, народ кричит, ругается. Приходится опять покупать бешеные наряды, в 36 лет страдать этим детством. Когда я как-то приехал петь на зону, надев мужской костюм, меня зэки закидали какими-то предметами, вопили: «Быстро переоделся и накрасился!» Даже там меня принимали таким, какой я есть. И я шел за кулисы, преображался, выходил снова — и мне орали «браво» даже на зоне.
(8)
Иэн Пэнман «Изгиб дорожки — путь домой»

Мастодонт британской музыкальной журналистики, на текстах которого росли Марк Фишер и Саймон Рейнольдс, написал книгу эссе о великих западных исполнителях середины XX века — от Чарльза Паркера и Джеймса Брауна до Фрэнка Синатры и Принса.
Героев сборника объединяет одно общее качество — кажется, насколько быстро они взлетали и очаровывали мир, настолько же незаметно и угасали (как, например, Элвис Пресли, который провел последние годы жизни, почти не выходя из дома). «Изгиб дорожки...» проводит читателя по этим биографическим дорожкам, которые, пускай и очень по-разному, сводятся к старению или забытью.
Все эти выходки Элвиса в его последние годы <...> в итоге вернули ему славу, но слава эта была дурная. Панк не только не отвернулся от Пресли, но и вернул его к жизни в качестве своего рода отрицательного символа. Он стал воплощением Плохой Америки. Олицетворением декадентского рока. Иллюстрацией того, насколько больным и отчужденным в действительности было мейнстримное общество за закрытыми дверями.
(9)
Дэвид Бирн
«Как работает музыка»
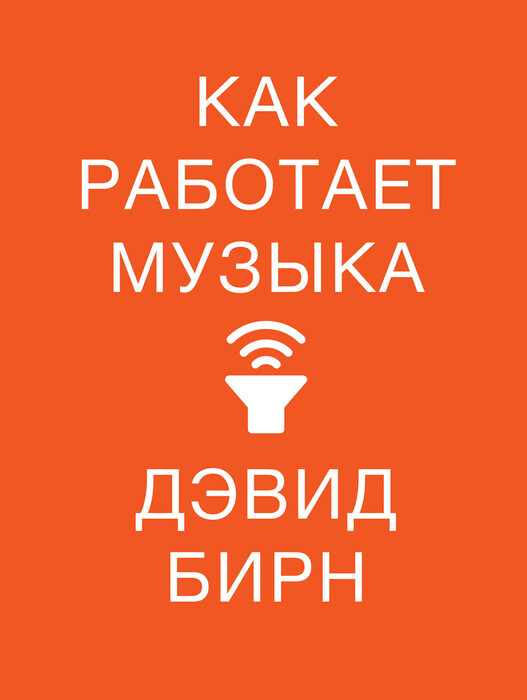
Как правило, к популярным музыкантам, пишущим о музыке, особого доверия нет. Дэвид Бирн видится исключением из правила. Да еще каким! Фронтмен культовой нью-йоркской группы Talking Heads пишет про самые разные аспекты, определяющие сущность музыки, — от архитектуры концертных залов и истории индустрии звукозаписи до биологических основ слушательского опыта и связи творчества с бизнесом.
Бирн перепрыгивает с антропологии на философию и экономику так часто,
как захочется, и вносит в книгу немного автобиографической сентиментальности —
это касается и упоминаний клуба CBGB, с которым прочно связана карьера музыканта, и рассуждений об африканской перкуссии, столь важной в работе Talking Heads.
То, как музыка работает или не работает, определяется не только тем, как она звучит изолированно (если такое ее состояние в принципе существует), но в значительной степени и тем, что ее окружает, где и когда вы ее слышите. Как музыка исполнена, как она продается и распространяется, как она записана, кто ее исполняет, с кем вы ее слушаете и, наконец, как она звучит — все это определяет не только то, работает ли музыкальное произведение, достигает ли желаемого эффекта, но и саму его суть.
(10)
Рик Рубин «Из ничего: искусство создавать искусство»
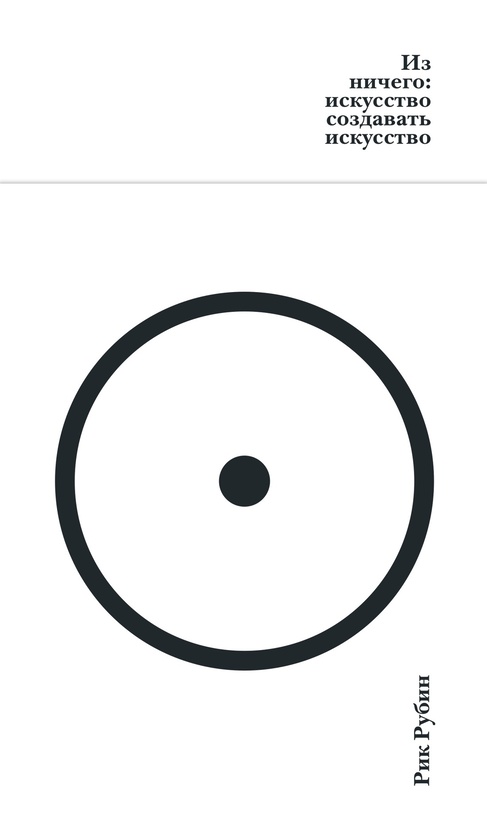
В каком-то смысле перед нами «Поймать большую рыбу» Дэвида Линча (книга о влиянии медитаций на творческий процесс режиссера), но для музыкантов. Рик Рубин — культовый продюсер, поучаствовавший в создании хитов Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, System of a Down и др. Он известен своим необычным подходом к работе — вместо того чтобы вмешиваться в творческий процесс артистов и нагромождать композицию стеной из звуков, Рубин предпочитает убирать лишнее. «Из ничего...» показывает, что без буддизма и медитаций тут не обошлось — но если для Линча последние выступали средством для раскрытия воображения, Рик просто стремится к упокоенному совершенству.
Сложно сказать, поможет ли вам
эта книга написать свой Californication, но наполняющие ее короткие афоризмы точно окажутся полезными для любых творческих людей, напоминая о важности терпения, доверия к собственной интуиции и свободных экспериментов.
Каким бы искусством вы ни занимались, слушание открывает новые возможности. С ним картина мира полнее. Многие взгляды мы восприняли еще до того, как получили возможность выбирать, чему учиться. Некоторые передавались из поколения в поколение и уже неактуальны. А некоторые, возможно, не были актуальны никогда.
Так что слушание — это не только осознанность.
Это свобода от принятых ограничений




