

Вас раздражает не книга
Виктория Рипа
«Можно ли читать “Бесконечную шутку” на публике?» — с таким заголовком в конце июня вышла статья в The Guardian, посвященная «перформативному чтению», то есть чтению высоколобой, умной литературы напоказ. В 2025-м его величество Reddit, телеграм- и не только блоги заполонили посты и треды, посвященные этой проблеме (проблеме ли?). Автор канала «еврейка у микрофона» Виктория Рипа рассуждает, как книги стали маркером статуса
и что нам с этим делать (и надо ли что-то делать вообще).

редставьте: кафе, утренний свет скользит по страницам пухлого тома «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Человек за соседним столиком погружен в чтение, он медленно отпивает остывающий кофе. Все это напоминает кадр из эстетичного книжного блога — и, скорее всего, именно там и окажется. Переносимся в Instagram Reels: у кафе сидят мужчины — каждый с книгой в руках. Кто-то перелистывает страницы, кто-то сосредоточенно смотрит внутрь, кто-то просто держит книгу на коленях, не отрываясь от телефона. Все выглядит как тщательно поставленная сцена: эстетика интеллектуального досуга в самом буквальном воплощении. И, конечно, комментарии. Кто-то восхищается, кто-то язвит. Завязывается спор — не о самой литературе, но мотивах: зачем человек читает публично?
Когда в 1955 году Мэрилин Монро позировала с «Улиссом» Джойса, это казалось остроумным контрастом — секс-символ и сложный модернистский роман. Фотография намекала: женщина может быть и умной, и сексуальной. А заодно играла с ожиданиями публики, мол, вы не думали, что она читает Джойса, а она читает. Сегодня же публичное чтение «Бесконечной шутки» Уоллеса или «В поисках утраченного времени» Пруста в кафе, метро или в Reels часто вызывает не удивление или восхищение, а раздражение. В комментариях под популярными роликами — тысячи ироничных реплик: «Лучше уж вообще не читать, чем так», «Кого они этим пытаются впечатлить?», «Смешной спектакль» — типичные реакции. Почему чтение перестало быть просто чтением и превратилось в провокацию?
П
Виктория Рипа • есть тема
Виктория Рипа • есть тема
История перформативного чтения — это, если угодно, история человеческого тщеславия в его самых изысканных проявлениях. Состоятельные древние римляне держали специальных рабов-чтецов — античный аналог аудиокниг, только с живым «плеером» в тоге. Викторианские аристократы коллекционировали книги с неразрезанными страницами — оригинальный способ сохранить произведения в идеальном состоянии (и заодно никогда их не читать). Русские аристократы XIX века заказывали бутафорские корешки — прообраз современных книжных полок «для атмосферы» (привет книжным стилистам, тщательно подбирающим обложки под цвет интерьера). Даже битники 1950-х, казавшиеся бунтарями, быстро превратили Керуака в культовый аксессуар: «На дороге» с пометками на полях стал символом новой интеллектуальной субкультуры.
Цифровая эпоха не изобрела ничего принципиально нового — она просто сделала этот театр видимым. Все, что раньше происходило за дверями кабинетов и в гостиных с абажурами, теперь разыгрывается у нас на глазах — в рилсах и сторис. Современные книжные инфлюенсеры, вызывающие столько насмешек и раздражения,
на самом деле лишь продолжают древнюю традицию.
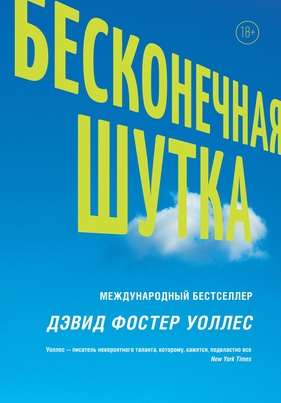
Дэвид Фостер Уоллес,
«Бесконечная шутка», Издание АСТ, 2019
Почему, например, «Бесконечная шутка» вызывает такие полярные реакции? В год выхода (1996) роман разошелся тиражом в 44 тысячи экземпляров, а к 2020-му его тираж превысил миллион. Однако, согласно индексу Хокинга — метрике, оценивающей, насколько далеко читатели продвигаются по тексту, — Уоллеса мало кто дочитал до конца. Метод подсчета прост: Amazon отслеживает, на каких страницах пользователи Kindle делают закладки и пометки. Затем эти данные агрегируются и на их основе вычисляется, какая доля книги в среднем бывает прочитана. Так вот, средний читатель осиливает всего 6,4% «Бесконечной шутки».
В том же антирейтинге, к слову, есть «Тяжелые времена» — мемуары Хиллари Клинтон. До конца 700-страничной книги добираются примерно 1,9% читателей.
Эти цифры давно стали мемом, мол, никто на самом деле «Бесконечную шутку» не дочитывает, но все делают вид, что читают. Как точно подметила Алайна Демопулос из The Guardian, интернет не выносит перформативного чтения «тяжелых» книг: Уоллеса, Пруста, Набокова. Однако в реальности все куда спокойнее. Демопулос провела эксперимент — читала «Шутку» в метро — и выяснила, что большинству просто все равно. Чтение «тяжелой» книги оказывается не демонстрацией статуса, а... просто чтением.
Похожее мнение высказывает и блог Bookish Bay: в социальных сетях, в отличие от реальности, приоритет отдается не чтению, а картинке — эстетичным полкам, кадрам с книгами, цитатам в выверенном шрифте и демонстрации альбомов с книжными закладками, разложенными по цветам. Понятно, что существует множество исключений из этого правила — в том же телеграме полно отличных книжных каналов, но в массе своей внимание инфлюенсера смещается с внутреннего диалога с текстом на внешний эффект, то есть важно не столько, что человек читает, но то, как это выглядит со стороны.
Впрочем, в эпоху люкса как лайфстайла чтение в какой-то мере все же стало элементом визуального кода. Как сумка, как аромат, как браслет Cartier на запястье. Речь, конечно, не о романах или эссе, а прежде всего об альбомах, скажем, Taschen и Assouline, которые существуют где-то на границе между книгой, арт-объектом и аксессуаром. Их покупают не для вдумчивого чтения, а чтобы жить с ними в одном пространстве: положить на журнальный столик и изредка пролистывать. Коллекционные тома в коже, переиздания с позолотой, талмуды с безумно красивыми иллюстрациями — это такой же маркер статуса, как винтажные часы или лимитированные кроссовки.
Ровно по этой причине «перформативное чтение» как таковое кажется мне искусственно раздутым пузырем — красивым, но по сути своей пустым. Если отбросить шелуху, довольно быстро станет очевидно, что спор идет вовсе не о литературе как таковой, а об очередном витке социальных ритуалов, где книга играет роль статусного символа.
Мы живем в мире, где любое действие публично и потому воспринимается как демонстрация. Но демонстрация чего? Ума? Образования? Безупречного вкуса? Проблема не в Прусте, не в Уоллесе, а в том, как легко люди приписывают чужому чтению скрытые корыстные мотивы. Мол, не может человек просто читать. Обязательно ради лайков. Или, чего хуже, чтобы самоутвердиться.
Обсуждение «перформативности» — это в сущности бесконечная игра в разоблачение. Кто по-настоящему читает, а кто делает это только ради контента? Кто достоин держать в руках Пруста, а кому полагается фэнтези с драконами? (И конечно, в мягкой обложке — чтобы не зазнавался.)
Перформативное чтение можно воспринимать как культурный конфликт, который формально вроде бы касается книг, но на деле куда больше говорит о динамике статуса и уязвимости. Демонстрация чтения — особенно «сложного» — легко считывается как символ доступа к ресурсам: времени, интеллекту, культурному капиталу. А у того, кто наблюдает, это может вызывать неосознанное чувство исключенности. В результате раздражение направлено не столько на книгу, сколько на неравенство, которое она будто бы подчеркивает.
В этом смысле фигура читающего человека вдруг оказывается вызывающей. Такой жест воспринимается как демонстративный и вызывает раздражение — не из-за содержания книги, а из-за самого факта ее публичного предъявления. Таким образом, чтение оказывается не просто занятием, а способом невербальной самопрезентации, но и в этом-то ничего плохого нет.
Тем более что сама категория «сложности» — вещь субъективная. Кому-то невыносим Джойс, кому-то — Толстой, а кто-то спотыкается на второй странице Дины Рубиной.
Как говорил Андрей Аршавин: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Люди сами приписывают чужому чтению позу, пафос или притворство, исходя из собственного раздражения, неуверенности, усталости. И в этом нет ничего постыдного — просто надо признать: вас раздражает не книга, а то, что кто-то может позволить себе книгу. Не в смысле покупки бумажного экземпляра, а в смысле внимания, времени и, что важнее всего, — отсутствия страха выглядеть нелепо. Я убеждена, что раздражение — это тоже форма вовлеченности, а претензия к читающему — втайне завуалированная претензия к себе.
И тогда становится ясно: и книжный снобизм, и антиснобизм рождаются из одного и того же чувства — страха не соответствовать. Страха оказаться недостаточно умным, недостаточно тонким, недостаточно глубоким. Или, наоборот, слишком старательным, показным, чрезмерно серьезным. И та, и другая позиция — способы защититься. Один человек отгораживается от «необразованной массы», другой — от предполагаемой условной «элиты». Но в основе у всех один и тот же вопрос: а кем меня сочтут, если я просто возьму и начну делать, что хочу (в данном случае — читать)?
Чтение не нуждается в оправдании. Это не экзамен, не моральная добродетель, а просто приятный для многих процесс потребления контента.
В этом смысле спор о «перформативном» чтении — штука тупиковая. Прежде всего потому, что он оперирует признаками и намерениями, которые невозможно объективно измерить, да и в общем-то не надо.
Как говорил Умберто Эко, текст всегда существует в диалоге с читателем, и каждый волен вести этот диалог на своих условиях. В конечном счете книга никому ничего не должна. Важно не где, как и что человек читает, а нравится ли ему сам процесс.Так что читать можно как угодно, и книга никому ничего не должна — но люди, как всегда, умудряются раздуть из этого целую проблему.




