Разум в лесу
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Американского писателя Ричарда Пауэрса довольно плохо знают в России — если в Америке он лауреат главных литературных премий и фактически живой классик, то в России его начали переводить только в последние годы, и пока эти переводы остаются почти незамеченными. Что понятно — Пауэрс не из тех авторов, которых легко и просто читать, романы его чаще всего не поддаются пересказу. В первую очередь это Overstory (в русском переводе «Верхний ярус», 2023) — Пулитцеровская премия 2019 года, мощнейший роман, где тесно переплетена жизнь многих поколений эмигрантов и посаженных ими деревьев. По случаю выхода на русском романа «Создатель эха», лауреата Национальной книжной премии 2006 года, Лиза Биргер объясняет, кто такой Ричард Пауэрс, что такое экофикшн и зачем он нужен нам.
Ричард Пауэрс,
2018
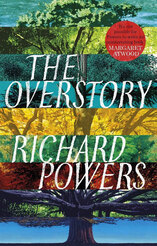
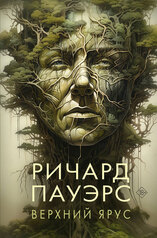
Долгая дорога в Дымчатые горы
Ричард Пауэрс появился в американской литературе не вчера — свой первый роман, «Три фермера на пути к танцу» он опубликовал еще в 1985 году. Это сложноустроенная книга, вдохновленная знаменитой фотографией Августа Cандера «Три молодых фермера», про которую и без Пауэрса написаны сотни книг и критических статей. На снимке — три молодых человека в костюмах с тросточками идут по деревенской дороге на танцы, год действия — 1914. Завтра Первая мировая война, а еще вчера никакого костюма и тросточки фермер позволить себе не мог. В книге Пауэрса истории этих молодых людей пересекались с судьбой Генри Форда, а еще с размышлениями о мире и прогрессе. Эта тяжеловесная и заслуженно подзабытая сегодня книга стала ответом Пауэрса на самый главный вопрос: как писать книги в мире, где все уже сказано.



←
Август Cандер,
«Три молодых фермера», 1914
Сам он родился в Иллинойсе, вырос в Бангкоке, в юности играл на нескольких музыкальных инструментах, изучал физику, потом — английскую литературу, но не стал получать докторскую степень, поскольку заметил, по собственному утверждению, что даже профессиональным читателям не слишком интересно читать книги. Тогда он переучился на программиста, нашел скучную понятную работу в Бостоне, написал передовую на тот момент программу для биржевой торговли, благодаря которой сегодня мог бы быть миллионером, зашел в Бостонский художественный музей передохнуть, увидел фотографию Сандерса и все понял про XX век и литературу. В тот же день Пауэрс бросил скучную перспективную работу и сел писать роман. В интервью New York Times он рассказывал: «Прежде, чем я понял, как рождает живых существ литература, я делал это в коде. Достаточно напечатать несколько строк кода — и ты создал организм».
Ричард Пауэрс, 2002
«Прежде, чем я понял,
как рождает живых существ литература, я делал это в коде. Достаточно напечатать
несколько строк кода, —
и ты создал организм».
Это важно понимать про Пауэрса — он немного зануда. Точнее, он зануда почти космического уровня. За прошедшие сорок лет он писал про ДНК и виртуальную реальность, теорию игр и расовую теорию, фармакологию и астробиологию, биотерроризм и фортепианные вариации Баха. Он создал первый роман про опасности искусственного интеллекта в 1995-м (Galatea 2.2, где эксцентричный нейробиолог создает мыслящую машину, воспитывая ее на литературных источниках), и уже с 90-х пишет о том, как неразрывно связаны состояние мира и состояние общества: в частности, экология и психология. Его знания в каждой из областей невероятно обширны — он тратит по несколько лет на погружение в тему, и три года, например, изучал биологию, чтобы герой его романа «Замешательство», астробиолог, мог фантазировать о жизни на других планетах. До 42 лет он жил аскетом, путешествовал по миру, но отказывался от достижений цивилизации (у него не было ни телефона, ни машины, ни телевизора) и гордился тем, что все его имущество помещается в два чемодана, а сегодня живет в Больших Дымчатых горах — уникальном с точки зрения биоразнообразия заповеднике, где обитает около 20 тысяч задокументированных видов, некоторые еще с ледникового периода, ходят черные медведи, гуляют герои Пауэрса, и сам он, прогуливаясь, надиктовывает свои романы на старый диктофон.
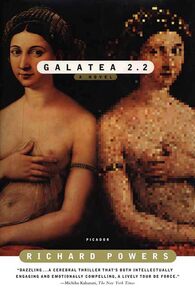
Завтра никак не наступит
Здесь стоит сказать, что Ричард Пауэрс сегодня — пожалуй, главный представитель жанра экофикшн. Не путать с книгами про цветочки и деревья, про необходимости соприкосновения с природой или автофикшном про сады и прогулки (смотри Оливия Лэнг, Кио Маклир, Эми Липтротт и др.), которые позволяют читателю эффективно соприкоснуться с огромной зияющей дырой на месте мира природы внутри нас. Экофикшн — это экологическая фантастика, где природа и вообще вся окружающая нас среда становится важным участником сюжета. И даже если сюжет напрямую не посвящен экологическим темам, читателю должно быть очевидно, что все происходящее рождается в результате взаимодействия человека и среды. Настоящей пионеркой экофикшна можно считать Урсулу ле Гуин и ее роман «Слово для леса и мира одно» — о людях-колонизаторах на планете, жители которой живут в полной гармонии с экосистемой. «Да это же “Аватар”», воскликнет читатель и будет не так уж и не прав — но только у ле Гуин наблюдения за жителями Атши неотделимы от антропологии и лингвистики, например. Потому что еще одно ключевое отличие экофикшна — он постоянно напоминает нам, что мир устроен сложно и что миллиард этих незаметных на первый взгляд связей формирует человеческое бытие и сознание.
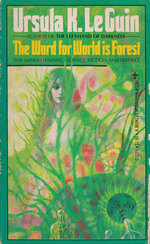
Урсула ле Гуин
Взять, например, того же «Создателя эха» — роман 2006 года, который буквально только что вышел в русском переводе (издательство «Эксмо», переводчик Анастасия Колесова). В центре романа — история 27-летнего Марка, который попадает в аварию, а очнувшись, принимает свою сестру Карин за самозванку, которая только выглядит и говорит как его сестра. У такого заболевания есть реальное название — синдром Капгра, и герои романа, в первую очередь нейробиолог Джеральд Вебер, подозрительно похожий на Оливера Сакса (американского невролога и популяризатора науки, автора книги «Человек, который принял жену за шляпу». — Прим. The Blueprint), с большим интересом исследуют связь болезни и среды. Пауэрс вообще очень любит списывать своих героев с реальных персонажей — главная героиня «Верхнего яруса», например, списана с канадской лесной экологини Сюзанны Симард, которая еще в 90-х открыла wood wide web, существование микоризных сетей, связывающих деревья в лесу с помощью грибного мицелия, но сначала ей никто не верил и все смеялись. Но самыми реальными героями его романа становятся канадские лесные журавли, с картины миграции которых открывается роман. Эхо полумиллиона журавлей разносится по всему тексту, и это ключ к пониманию семейных травм и неврологических поломок. Человеческое сознание хрупко и ненадежно, но настоящий эпос начинается там, где в действие вступает хор: птицы, деревья, даже звезды.

Сюзанна Симард
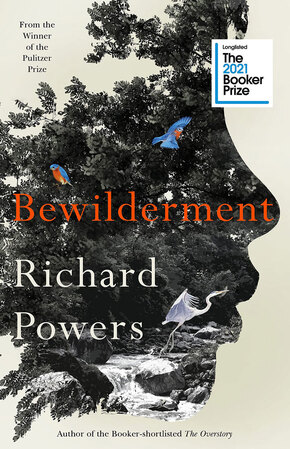
Пожалуй, самая сложная для российского читателя книга Пауэрса — «Замешательство», об отношении отца и аутичного сына после смерти матери. Дело происходит в недалеком будущем, Америку сотрясают политические кризисы и природные катаклизмы. Отец водит сына в Дымчатые горы и рассказывает ему истории о звездах и других планетах, а из школы звонят и жалуются, что нарушение режима плохо влияет на поведение ребенка: ему нужен покой и порядок. Интересно, что русские читатели на книжных форумах отреагировали на роман примерно так же — как на историю о том, как нерадивый отец загубил нездорового сына. Но Пауэрс предлагает нам посмотреть на мир с совсем другой стороны — как на энциклопедию разрушений, в которой отдельная семья становится только частным случаем глобальной травмы, затрагивающей все области нашей жизни: от экосистем до человеческих связей.
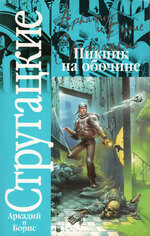
А что в России?
Разрушение природы как неизбежная иллюстрация гибели человеческих связей — совсем не новая тема в российской литературе. К этой трагедии отчуждения, например, так или иначе отсылают все большие тексты Андрея Платонова. А в 70-е годы российская фантастика тоже не отставала от западной в освоении экологической темы — братья Стругацкие в «Пикнике на обочине» или Андрей Тарковский в «Сталкере» точно так же показывали, как привычный мир разрушается вместе с экосистемой. Проблема скорее в том, как вывести эту тему из фантастического гетто, в том, чтобы сделать принцип романов Пауэрса — многоуровневых, сложносочиненных и в каком-то смысле даже научных — принципом разговора о будущем вообще. Сам он убежден, что именно в этом состоит задача литературы: «Художественная литература остается слепа к реальному миру. Настоящий вопрос к человечеству — сможем ли мы найти истории, в которых будет описано, как нам научиться постоянно жить среди нечеловеческих организмов».

Андрей Тарковский , «Сталкер», 1979
Кого еще почитать:
Татьяна Толстая
«Кысь», 2000

Полузабытый хит ранних нулевых — роман о жизни после ядерной катастрофы и странном симбиозе, в котором выживают люди и природа, потому что иначе никак.
Дэниел Мейсон
«Северный лес», 2003
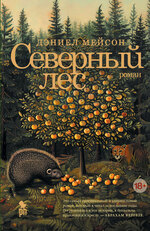
История одного американского леса, охватывающая несколько столетий, звучит как диалог с «Верхним ярусом» Пауэрса — правда, Мейсону достаточно одного дерева, чтобы рассказать увлекательную историю вокруг него, а Пауэрс пытается, и успешно, описать целый лес.
Барбара Кингсолвер
«Библия ядоносного дерева», 1998
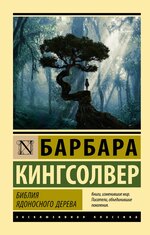
В своих романах Барбара Кингсолвер редко ограничивается одной темой и сюжетной линией.
Вот и здесь — главный герой, фанатичный миссионер в джунглях Бельгийского Конго, никакой силой проповеди не может победить магическую силу деревьев. Природа у Кингсолвер — такой же насильник, как и те, кто пытается ее покорить, но она никогда не забывает напоминать нам, как тесно связаны деревья и люди.
Ольга Токарчук
«Веди свой плуг по костям мертвецов», 2009
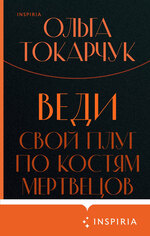
Радикальный экофикшн нобелевской лауреатки из Польши о пожилой женщине, которая защищает лесных животных от охотников, — у Токарчук природа оказывается жестокой и мстительной, а границы допустимого ставятся под сомнения.
Сборник
«Срок годности», 2022

Сборник, возникший в результате работы лаборатории экописьма в Школе литературных практик — главная попытка создать экофикшн в современной России — в частности как повод для разговора о разрушениях настоящего и тревогах будущего.




