
Госпожа
Метелица
ФОТО:
ВИКТОРИЯ РИВЬЕР
С 8 по 19 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 13-й Международный фестиваль «Дягилев P.S.», который в этом году посвящен 150-летию великого импресарио. Накануне открытия фестиваля Настя Сотник поговорила с его художественным руководителем, директором Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Натальей Метелицей о сотрудничестве с Сен-Лораном, императорских сокровищах и воспитании смелости с помощью катания на санках.


Почему вы решили делать
фестиваль, посвященный Дягилеву?
Я задумалась о нем еще в 2007-м, потому что вдруг от разных зарубежных музеев стали приходить запросы на выдачу экспонатов, связанных с Дягилевым. Все готовили выставки в 2009 году, к столетию «Русских сезонов». А я думала: боже мой, все это происходит где-то далеко, а тут все молчат и молчат. И вот в 2008-м на общем собрании творческой интеллигенции я сказала: «Друзья, ну что мы мучаемся с брендом города. У нас есть прекрасный бренд — Дягилев. Дягилев, который отсюда. Дягилев, который наше все». Мы стали раскручивать эту идею — и поняли, что надо делать отдельное событие имени Дягилева. А еще, представляете, только сейчас, когда я стала изучать свои корни и пробовать найти хоть какие-то документы из истории семьи, то выяснила, что я родилась в имении, которое принадлежало барону Дерфельдену, чей сын Владимир женился на графине Шереметевой Марии Федоровне — а у меня один из филиалов музея, между прочим, Шереметевский дворец. А в трех километрах оттуда находится деревня Сухлово, которая принадлежала помещице Рокотовой. А Рокотова — тетушка Сергея Павловича Дягилева. Вот так! Представляете? То есть я формировалась между Шереметевым и Дягилевым еще в то время, когда в моей жизни не было ничего даже близкого ни к Шереметевым, ни к Дягилевым.

Где вы родились?
Я родилась в провинции совершеннейшей. Местечко Раньково — это бывшая барская усадьба, в которую мама моя была отправлена после войны работать земским врачом. Там она встретила отца, который был директором школы и по совместительству учителем математики. Когда я родилась, маленьких детей в округе не было. Я так и росла одна — из друзей только папина стая собак, которая ему в охоте помогала. Так что я немного Маугли. Летом ко мне приезжала бабушка из Воронежской области. Она во мне воспитывала смелость. Например, водила на Сухловские холмы (там, где была деревня Рокотовых), откуда я должна была на санках скатиться. Гора неимоверная, не спуститься на машине даже, практически вертикальная. Так вот я скатывалась — а бабушка меня обратно на гору загоняла. Воспитывала во мне способность к преодолению — и страха, и трудностей. Эти качества я в себе несу до сих пор. Зажмуришься — и понимаешь, что уже невозможно остановиться. И так во всем.
При этом, судя по вашей биографии, вы тот редкий счастливый человек, который сразу понял, чем хочет заниматься в жизни. Поступили на театрального критика — и всю жизнь занимаетесь театром. Все так?
Нет, вы знаете, когда я училась в школе в городе Великие Луки Псковской области, у меня было два любимых предмета — математика и химия. Помним, что у меня мама — врач и дальше в роду тоже есть врачи. Так что я, конечно, думала быть врачом, пока меня не отрезвила медицинская практика, которую мы проходили в старших классах. Там мы делали внутривенные, внутримышечные инъекции, разные кожные процедуры, успокаивали несчастных в психоневрологическом отделении. Это, конечно, была большая школа. С одной стороны, ты испытывал радость оттого, что помогаешь другим. А с другой, все увиденное очень, так сказать, шарахало по голове. Ты приходил домой после патологоанатомички, а бабушка сделала домашние картофельные котлетки с соусом из изюма. Котлетки божественные, но когда ты пришел после занятия, где вскрывали новорожденного с патологией, аппетита не было. К тому же я всю жизнь живу с тонким, порой обостренным обонянием. Я всегда сначала воспринимаю все и всех на запах, потом на слух и только потом глазами.
Запах театра вам в итоге больше понравился?
Да, во-первых, после медицинской практики я поняла, что точно не буду врачом. А во-вторых, я занималась в местном Театре юного зрителя. Им руководил знаменитый детский писатель, драматург Валерий Зимин, то есть все было серьезно. И я, конечно, очень хотела стать актрисой. Но, закончив школу с золотой медалью, что тогда добавляло значительный вес на вступительных экзаменах, я рванула в Москву, в Институт международных отношений. Прошла два собеседования, а на главный экзамен опоздала, потому что не успела на поезд — его отправление совпало со, скажем так, ночью моего выпускного бала. Попробовала в Московский государственный университет — недобрала один балл. Пришлось вернуться в Великие Луки, где я год проработала концертмейстером в музыкальной школе, аккомпанировала на занятиях по классу виолончели.
Но все-таки на музыке вы не остановились?
Да, летом вновь поехала поступать, уже в Ленинград. Ходила на подготовительные курсы факультета журналистики в Ленинградский университет, а потом посмотрела по сторонам, поняла, сколько в Петербурге по части театра происходит интересного, и решила — а почему бы не поступить в театральный? Чем черт не шутит?
Вы же актрисой сначала
решили быть, так?
Да, мне вообще нравилось лицедейство. Театр — это в принципе моя стихия. Собственно, я прошла два тура, потом пришла в деканат, а мне говорят: «Наташа, а зачем тебе вообще это актерское дело? Зачем тебе становиться зависимым человеком? С золотой медалью и актрисой быть? Ты что, с ума сошла? Иди вон хоть на театроведческий». Я и пошла. Как сейчас помню: в пятницу написала рецензию на фильм «Ионыч» (потому что я спектаклей ленинградских не видела). В воскресенье было собеседование. В понедельник прихожу и вижу оценки: 5/5 — все, получается, поступила.

А когда вы пришли работать экскурсоводом в Театральный музей, где теперь занимаете пост директора?
Я очень хорошо закончила институт, была рекомендована в аспирантуру. Но я не из Ленинграда, а людям со стороны в подобные институции поступать было сложно, не важно, какие оценки и рекомендации. И дальше случилось самое мучительное 1 сентября в моей жизни. Потому что я привыкла все время учиться, что-то делать, а тут вышла из дома по привычке в 9 утра, а идти некуда. Надо было что-то с этим делать. Кинула клич по институту, что ищу работу. Меня порекомендовали в Ленинградский театральный музей (потом его переименовали в Музей театрально-музыкального искусства), где предложили стать «научным сотрудником-экскурсоводом». Честно скажу, я пришла туда с ощущением, что надо просто пересидеть, — а дальше будет интересно.
Много людей приходило
на экскурсии?


Совсем мало, но меня эти люди вообще мало волновали. Музей меня тоже не волновал. Я его воспринимала как что-то такое замшелое, пыльное, ну просто как склад, хранилище. А потом я поняла, что все определяют люди, и в первую очередь ты. Сегодня для меня нет более потрясающего места, чем музей. И так получилось, что у меня другого официального места работы, кроме разве что концертмейстера в Великих Луках, не было никогда. Здесь я прошла все ипостаси, от сотрудника-экскурсовода до заведующей отделом, от заместителя директора по науке и международным связям до, собственно, директора.
То есть все же добрались до международных отношений?

В этом помогла другая моя большая страсть и суперсила — английский язык. Я им решила овладеть еще в своей провинциальной школе — он нужен был, чтобы поступать в институт. А поступив, я продолжила заниматься английским. Три года ходила на государственные курсы иностранных языков. Мне все говорили: «Метелица, ты что, сумасшедшая? Ты вообще иностранцев-то видела?» Не видела, но увидела!
И как же?
А вот так — к концу 1980-х я развернула в музее самую настоящую международную деятельность. Тут стоит оговориться, что у нас она и до этого была, но строго регламентированная Министерством культуры. Устроено это было так: приходит письмо, что вот такой-то будет проект. Например, «Москва-Париж», который курировала Ирина Антонова. И нам говорят: «Вы как Музей театрально-музыкального искусства должны подготовить экспонаты для выставки». Мы отбирали 100-150, у нас брали 30 — все. Статью в каталог еще обязательно писали. Вот и вся наша тогдашняя международная деятельность. Но в конце 80-х все зашаталось, а после 91-го институции вообще как-то поплыли, и нужно было выживать всем. И музеям в том числе.


Как вы выстояли?
Мы доказывали себе и всем, что нужны, интересны, важны. Мы сами начали искать зарубежных партнеров, контакты. Шел 1989 год, я оказалась в РОСИЗО — что-то мы должны были вывозить через них. И случайно стала свидетелем разговора между американцем и русским. Американец говорит: «Так и так, понимаешь, меня бросил Русский музей, а у меня уже арендовано помещение. Такой ужас». Я понимаю, что у американца слетает какой-то проект, и говорю ему: «А вы не хотите взять в партнеры Музей театрально-музыкального искусства из Ленинграда?» Он говорит: «Надо собрать проект за 1,5 месяца». — «Сделаем». И в результате через полтора месяца мы открыли в Нью-Йорке выставку, посвященную русскому балету. На нее, например, пришла знаменитая балерина и первая жена Баланчина Тамара Жевержеева. Дело было в частной галерее на Мэдисон-авеню, но вы не представляете, какой это был важный шаг: мы, наш музей — в Америке! Мы получили по контракту 20 000 долларов.

На что потратили?
На 14 000 долларов мы прооперировали нашего сотрудника в Израиле, ему нужно было делать стентирование. А на оставшиеся 6000 купили, так сказать, технику для музея. То событие было для всех шоком, потому что, поверьте, никто тогда в советском Ленинграде, который уже становился российским Петербургом, не делал таких шагов и не организовывал таких выставок. Никто. Мы сами, на ощупь разбирались с договорами, ответственностью, партнерствами — и потом делились с коллегами полученным опытом.
А почему вам так хотелось выйти на международный уровень?
Понимаете, у нас полмиллиона экспонатов. У нас самая большая коллекция работ Бакста. У нас вся подборка эскизов Малевича, костюмов к футуристической опере «Победа над солнцем». У нас уникальная коллекция музыкальных инструментов, — третья, может, четвертая по ценности в мире. У нас сокровища императорских театров — около пяти тысяч костюмов XIX— начала XX века. Об этом нужно рассказывать, это важно показывать — как иначе? Музей — это история, это прошлое, которое нужно знать, чтобы строить будущее.
Каким еще проектом
вы особенно гордитесь?

Второй наш олимп — это вообще, можно сказать, пьеса, которую я поставила и в ней же сыграла. Другие ведущие роли достались Иву Сен-Лорану, нашему музею и, конечно, моим коллегам, которые все это сотворили. Я говорю о выставке «Искусство балета в России», которую мы провели в Опера Гарнье. Все началось так: 1987 год, в Эрмитаже проходит ретроспектива Ива Сен-Лорана. Я посмотрела: «Господи, какая красота!» И попросила Бориса Борисовича Пиотровского, который тогда был директором Эрмитажа, чтобы он меня познакомил с дизайнерами дома. Собственно, они пришли в музей, я показала несколько костюмов. И от наших экспонатов, понимаете, поплыли все! Потому что это все кутюр, все делалось в мастерских императорских театров. Мы поняли, что надо делать выставку. В Париже, конечно. И через некоторое время уже весь Париж был в афишах: «Дом Yves Saint Laurent представляет „Искусство балета в России“, а в 1990 году мы уже открыли выставку в Опера Гарнье. Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства». Не помню точно, Санкт-Петербургский или Ленинградский. Мы приехали из Ленинграда на монтаж выставки, а уехали в Петербург.


Какое впечатление
произвел на вас Париж?
Мой Париж — это целая история. Прежде всего интереснейшие люди. В основном это, конечно, семьи эмигрантов. Я познакомилась с баронессой Элен де Людингаузен (последней представительницей рода Строгановых), которая стала моей близкой подругой, она и ввела меня в этот особенный Париж. Помню, накануне открытия выставки она меня спросила: «А ты в чем будешь?» И, увидев, что я даже не думала об этом, принесла несколько костюмов Yves Saint Laurent. Больше всего я любила Yves Saint Laurent, у меня довольно много его вещей, теперь уже винтажных. Элен была главой направления haute couture в YSL, но, надо сказать, она никак не была причастна к тому, что мы сделали совместную выставку, — наша дружба случилась после. А с ней мы потом сделали Строгановский фонд — это моя очередная авантюра, которая вылилась в потрясающе мощное дело, которое принесло большой вклад в культуру России.
На какие деньги
его сделали?

Это все частные деньги. Не было тогда еще ни «Лукойла», ни «Газпрома», ни «Роснефти». Таких структур просто не существовало. Я как-то поговорила с Элен, объяснила, что вы, урожденные Строгановы, не можете быть в отрыве от России — надо делать Строгановский фонд, который будет собирать деньги на восстановление нашей культуры, от усадеб и церквей до музеев. И мы сели писать письмо от лица Элен профессору и мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. «Уважаемый профессор Собчак, мы последние Строгановы, мы небогатые, но у нас большие связи. Очень следим за всеми преобразованиями в России и хотим ее поддержать» и так далее. Элен мне говорила: «Послушай, я совершенно небогата, я наемный работник, вот у меня зарплата 12 тысяч долларов в месяц, и что мы можем?» А я ответила: «У тебя есть связи, клиенты, они могут помочь». И тогда правда много кто мог и хотел помочь. 1992 год, все думали, что новая Россия далеко пойдет, и честно хотели ей в этом посодействовать. И Собчак сразу откликнулся, он пригласил с визитом Элен с семьей. Такое вот я сотворила. Неплохая история была. Возили мы сюда много, очень много интересных людей.
Кого, например?
Того же Сен-Лорана. Многих великих князей: итальянскую принцессу Марию Пию Савойскую, французского бизнесмена, гонщика, члена династии Пармских Бурбонов Мишеля Бурбона Пармского. Внук Георга V, член британской королевской семьи Майкл Кентский впервые приехал с нами сюда. А до этого он вообще боялся России.
А как вы их уговаривали?
Элен рассылала всем приглашения. Она рассылала их много, сотни. И поскольку у нее безупречная репутация, плюс они — клиенты дома, то все с большим пиететом относились к ее приглашению. Мои коллеги — директора петербургских музеев — когда слышали от меня, что мы задумали, какое дело на благо культуры делаем (за время деятельности Международного благотворительного фонда имени Строганова удалось отреставрировать Строгановский дворец на Невском проспекте, прогнать странных арендаторов из Казанского собора и возобновить в нем богослужения, отреставрировать Екатерининский дворец в Царском селе, а также восстановить храмы в ближайших уездах. — Прим. The Blueprint), тоже все двери открывали. Так и получилось, что я подарила Элен Россию, а взамен получила весь мир. Потому что потом, куда бы я ни приезжала, меня везде ждали.
Как вы познакомились
с Андре Леоном Телли?

Элен пригласила его как гостя Строгановского фонда в 1993 году. Он тогда приехал еще в статусе креативного директора Vogue. Элен с ним очень дружила — особенно она любила его за открытый и добрый нрав. Мы с ним тоже быстро нашли общий язык. Он мне даже сделал подарок — меховую леопардовую бейсболку. Я ее до сих пор храню, ношу с любимой леопардовой шубкой.
Мир моды тогда же вам
как женщине открылся?
Ну как открылся. В России не было еще ни Vogue, ни Tatler, ни Elle, ни Marie Claire — а тут у меня парижский Madame Figaro берет интервью, чтобы сделать большой репортаж в духе «сильные женщины новой России». Перед тем интервью одна подруга мне оплатила стрижку в дорогом салоне на авеню Монтень. Другая подарила пиджачок Ungaro.
А вы вообще
любите модничать?
Еще бы! Меня называют иконой стиля.
Я поняла, что ваш главный бренд — Yves Saint Laurent. А что другие?
Понимаете, я считаю, что есть три главных бренда, творящих моду как искусство. Chanel, Dior, Yves Saint Laurent. Конечно, до этого была Эльза Скиапарелли, но эти трое очертили моду как индустрию и определяют ее до сих пор. Все-таки колоссальную базу оставили эти модельеры, а остальные ее до сих пор просто развивают на разные лады. И все они так или иначе взаимодействовали с театром. Шанель и Кокто, Сен-Лоран и Ролан Пети. У Диора этого чуть меньше, но тоже был свой «Театр моды», как мы помним. Я, конечно, оцениваю дизайнеров прежде всего как театральный художник. В этом смысле еще Лакруа невероятный.


Гальяно.

Гальяно был здесь у нас тоже.
По какому поводу?
Они все у нас побывали в архивах гардероба императорских театров — с частными визитами. Валентино — трижды, он очень любил наши экспонаты. Я их понимаю — конечно, очень ценно посмотреть на оригинальные костюмы Бакста, Бенуа. С Алайя я встречалась, мы хотели делать выставку его театральных костюмов, они у него крайне любопытные. Но не успели из-за его внезапного ухода из жизни.
Кто-то
из дизайнеров
впечатлил вас?
Ничего особенного. Понимаете, мы встречались, пили чай-кофе, потом они шли в фонды, потом «Наталья, какая у вас красота нереальная», и так далее, и все, разошлись по делам. О чем я могла говорить с Гальяно? Не знаю, может быть, если бы я их повстречала в начале своего пути, все иначе бы сложилось, а так, понимаете, я уже была в той позиции, когда меня это мало занимало. Наше поколение все-таки довольно поздно выехало за границу, но быстро наверстало.
Гламур вас не очаровал?
Вообще что такое гламур? Мое первое столкновение с ним в Париже было такое: 1980-е годы, в урнах лежат совершенно новые журналы Elle и Vogue. Человек прочел и бросил — в принципе, сейчас это тоже так. А тогда мы восхищались любой красивой, пусть даже самой бытовой деталью. Помню, на площади Конкорд увидели великолепную пустую желтую канистру — и даже захотелось увезти ее в Россию. Тем более что их в России не было тогда вообще, канистр. А тут новый журнал, и уже в урне. Такой «гламур» меня потряс. А первое соприкосновение с большой модой — это, конечно, встреча с Элен. Она, директриса всего направления haute couture, вышла к нашей делегации такая маленькая, в элегантном брючном костюме. Роскошь этого модного дома нас потрясла, мы-то у себя нитки еле доставали, чтобы детям одежду вязать — одевали их в самовяз.
А вы в чем были на той встрече?

А я была в очень красивой коричневой шубе в роспуск, купленной в комиссионке, в коричневых сапогах, с черной сумкой и с сувенирами — ну что мы тогда могли привезти? Хохлома да гжель.
Вам экскурсию провели по Дому?
Да, мы прошли, посмотрели, где сам Сен-Лоран творит. У него на столе всегда были наточенные карандашики, как у меня, только разноцветные. Рядом со столом лежанка для Мужика (собаки). Часа полтора мы ходили по всем цехам и в конце спустились в холл. Элен тогда пришла к нам проститься и вручила каждому по красиво упакованной коробке. Для меня гламур с тех пор — это умение упаковывать подарки, причем красиво.
Что было
в вашей
коробке?
Коричневая сумка, безумно красивая.
Она у вас до сих пор есть?
Конечно!
А с Элен вы до сих пор общаетесь?
Да, мы большие подруги. Я вообще не теряю людей. Вот это тоже очень важно, понимаете. Я не теряю ни больших, ни маленьких. И не забываю, как их зовут. Еще важно быть открытым к людям — открытым и смелым.
В составлении программы фестиваля «Дягилев P.S.» вы придерживаетесь того же принципа?
Тут знаете, что вступает в силу, — перфекционизм. Вот. Не забудьте. Есть такое свойство. Перфекционизм. Понимаете? Новизна и перфекционизм — вот наш секрет. Всегда обновляться, расти профессионально. И доводить качество исполнения задуманного до совершенства. Вообще качество — это очень важно. Оно относится ко всем и ко всему в музее.

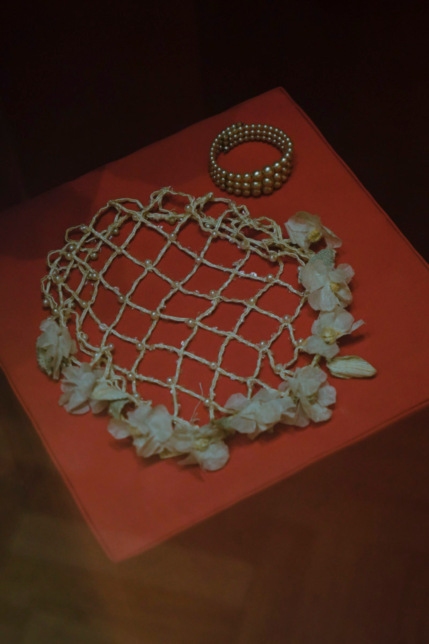
Почему вы больше ни с одним из модных домов пока не сделали выставку?
На самом деле мне мало с кем было бы интересно. Понимаете, тут нужен именно большой бренд, в ДНК которого есть театр, — с Yves Saint Laurent это было идеальное совпадение. Плюс там был умница Пьер Берже, то есть это был еще и успешный бизнес, который мог вложиться в такую историю. Я думала сделать выставку с Dior про Грейс Келли, даже начала разрабатывать этот проект. Хотелось раскрыть ее именно как актрису. Но, во-первых, с точки зрения фактуры там мало набиралось действительно интересных предметов Dior, именно сценических. А во-вторых, когда мы начали общаться с LVMH, они потребовали просчеты, бюджеты, большие инвестиции, а мы такое не можем себе позволить. Притом что у нас в истории болезни, так сказать, уже был успешнейший проект с Saint Laurent, который отлично приняли со всех сторон, потребовались еще такие, более материальные гарантии качества нашей работы.
Как сейчас живет музей?
Понимаете, он очень большой. Пять адресов, у каждого свои проекты. У каждого есть свой план по количеству посетителей. По 22 000 человек у филиалов. Сюда, на площадь Островского, — 45 000. Да еще 70 000 в Шереметевский дворец. Эти дворцы вообще не были приспособлены для того, чтобы в них толпами приходили люди. А мы это делаем. Мы фактически насилие некоторое употребляем над этими пространствами, но так сложилась практика музейная: есть посещаемость — есть доход. Доход — этот, грубо говоря, 35 миллионов рублей всего в год, поэтому нас в основном содержит государство. Из дохода 80%, даже больше, идет на надбавки к заработной плате. Значит, остаются на развитие музея очень маленькие деньги. А музею надо жить и делать какие-то интересные проекты. Вот почему мы так нуждаемся в спонсорах и благотворителях.


Почему у фестиваля в названии указано «постскриптум»?
Потому что наша цель — возвращать имя Дягилева в постдягилевском пространстве, понимаете. Не в том, чтобы сказать, что вот мы можем выставку сделать только про Дягилева, показать экспонаты первых двух «Русских сезонов» или еще что-то. Тут важен именно постскриптум: мы думаем, что можно сказать на эту тему сейчас.
И вы допускаете при этом любые прочтения Дягилева, так?
Естественно. А иначе зачем бы я бралась за дягилевский фестиваль? Я вообще открыта к тому, чтобы делать то, что еще не делали до, понимаете. Вот сделали выставку в Америке тогда первую. В 1986 году наш музей сделал выставку на двух этажах ЦВЗ «Манеж», который очень модное место сейчас, а тогда таких крупных проектов там не устраивалось. А ведь когда я пришла с этой идеей, мои коллеги меня сначала даже не поняли. Не знаю, как мы решились, но оно того стоило — выставка получилась мощнейшая, и ее даже признали лучшей выставкой 1986 года. Я всегда уверена в таких вещах. Интуиция не подводит.


Прошлогодняя выставка «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» —
тоже проект, который случился несмотря ни на что?
Мне очень хотелось, чтобы мои коллеги взяли такой же олимп, как я, когда была выставка с Yves Saint Laurent. И получилось — они получили высшую театральную премию Петербурга «Золотой софит». И я счастлива, что они покорили эту вершину, несмотря на ковидный 2020 год, карантин в Европе, когда все музеи были закрыты. За четыре месяца нам удалось как-то просочиться, договориться с партнерами. Конечно, до этого, еще в 2019-м, я встречалась с директором Музея Руана, с Центром Помпиду, чтобы мы по проекту начали работать. Они сказали «да», а потом им ковид сказал «нет». А Метелица сказала «все-таки да!». И в результате картины приехали без людей, без сопровождения — и мы сделали по-настоящему великую выставку. В одних стенах можно было увидеть Мунка, Де Кирико, Бакста, Руссо, Кокто, Жак-Эмиля Бланша. Из 135 работ 70 наших, остальные заграничные. 26 музеев-участников и три частные зарубежные коллекции. Мы выстроили ее как спектакль, и как в лучших постановках, у нас залы заполнил специальный аромат — парфюмер Денис Леонов создал для экспозиции авторский парфюм. В общем, мощнейшая история. Но такое в одиночку не сделаешь — меня окружает много талантливых людей, которым интересно работать. Которым интересен музей. Я в них уверена, потому и вполне спокойна за будущее музея, когда ему нужно будет перейти в другие руки: это случится, и я это понимаю. Но пока у нас еще есть силы на музейные «спектакли», которые до этого никто не решался делать.
Получается, вы все-таки стали актрисой?
Скорее, режиссером. Вообще, театр — великая вещь. Правильно Шекспир сказал, что жизнь — это театр, и мы все в нем актеры. Очень важно понять свою роль и сыграть ее достойно, интересно. Так, как никто до этого не делал. Так, чтобы никто не повторил.




