ТЕРЕЗА Мавика
Интервью:
александр перепелкин
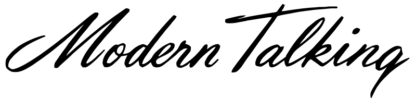
РЕЖИССЕР-ОПЕРАТОР:
сергей костромин
29 октября объявили дату открытия ГЭС-2: арт-пространство на Болотном острове (где пока идет масштабная стройка) должно заработать в конце сентября 2020 года. ГЭС-2 — один из самых громких российских художественных и архитектурных проектов последних лет: бывшую электространцию, соседствующую с Кремлем, «Стрелкой» и Домом на набережной, переделывают по проекту архитектора Ренцо Пиано. Грандиозный (даже по московским меркам) проект — дело рук фонда V-A-C: самого состоятельного бизнесмена России по версии Forbes, мецената Леонида Михельсона и куратора и руководительницы фонда Терезы Иароччи Мавики. Редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин поговорил с Терезой Мавикой о «нашем Tate», его прошлом и будущем — а заодно и о будущем России и Европы.
I
О переезде в Россию и 90-х
— В январе этого года вы отметили тридцатилетие с того момента, как в суровую зиму приземлились в Москве. Вы помните ваши первые впечатления?
— Конечно. Тридцать лет — это очень долгий срок, и впечатления связаны, видимо, с тем, что была суровая зима. Надо понимать, что я родилась на юге Италии, под солнцем и у моря. Поэтому у меня уровень суровости намного ниже, чем у обычного человека, который родился здесь. Я приехала 27 января, было очень холодно, но самое первое впечатление — что я улетела из Италии днем, а приехала сюда уже ранним вечером. Холод и темнота озадачили меня. Первым впечатлением был холод. Что-то, к чему я не привыкла и к чему нельзя привыкнуть.
Что оставило меня тут? Люди. Я бы сказала, безусловно, люди. Это были тяжелые времена, была тяжелая зима по всем показателям, но в этой атмосфере конфуза, огромной агрессии и пустоты — для меня это было еще более неразборчиво, чем для кого-либо, — в этой обстановке я умудрилась найти людей, которые очень тепло ко мне относились. Я в России нашла какой-то уровень человечности, который у нас потерялся. И для меня это очень важно.
— Вы прилетели в Москву, чтобы писать диссертацию? Как звучало ее название и что с ней случилось?
— Я приехала в Москву не то чтобы писать диссертацию — я ее уже писала в Неаполе. Это звучит сейчас как немного археологическая тема. Но в те годы сильно менялось законодательство, особенно в производстве. Родился закон о кооперативах, например. Я изучала это. И когда я делала запрос на грант, я подавала его на Америку. Потому что в Советский Союз и все социалистические страны приглашали в основном филологов, тех, кто учил русский язык. Поэтому я даже не предполагала, что могу сюда приехать. Я делала запрос на то, чтобы поехать туда и углубляться в изучение трансформации законодательства и того, как оно будет влиять на межличностные отношения. Так случилось, что пригласили сюда, а не туда. И здесь все было как-то по-другому. Потому что здесь это исследование вышло за рамки лабораторного. Здесь я была в полевых условиях: можно было видеть, как открываются первые магазинчики, как они начинают работать. Как на самом деле это централизованное распределение товаров исчерпало себя. Здесь были люди и художники, а они особенные люди. Диссертацию я закончила писать и не уехала. Я отправляла туда очень много текстов, но они были больше похожи на письма с фронта, на личный взгляд. Это было очень интересно. Мне очень импонирует идея рассказа. Рассказ — это разделение опыта.
— Как выглядел арт-процесс в России в начале 90-х?
— Это выглядело очень живо, молодо и красиво. Для меня большим впечатлением оказалось то, что для моего поколения, которое потеряло иллюзии 60-х годов, было действительно ощущение того, что что-то важное будет происходить. Эта музыка Виктора Цоя, например. Этот саундтрек этой эпохи рассказывал хорошо об ожидании чего-то грандиозного. Я помню, когда я познакомилась с группой художников «Чемпионы мира», увидела первые их работы — была просто поражена. Какое было на них небо! Оно было совсем не московским. Оно не было серым для меня, тяжелым, зимним. Оно было абсолютно свободным голубым небом. Этот голубой цвет я помню до сих пор.
Атмосфера была сложная, с одной стороны. Потому что я приходила из мира, в котором эта система искусства вся структурировалась и институционализировалась: были галереи, выставочные залы. А тут все было в каких-то подвалах или на чердаках. Было интересно видеть абсолютно всегда периферийное пространство. Было безумно живо и суперинтересно. Мне кажется, этот драйв остался во мне, они меня обучали очень важному. Именно эти художники научили меня любить эту страну. Все, что у них было, было продиктовано любовью. Это звучит немного странно, но нужно понимать, что эти связи у нас немного потерялись, стали меньше чувствоваться. Они не то чтобы учили меня любить страну, которую я не знала. Я ее знала через культуру, через литературу и музыку. И когда приехала, могло так быть, что моя любовь не совпала с их любовью. Но мы любили одну и ту же страну.
— А как вы себя ощущаете здесь сегодня? Для многих не сбылись надежды тех годов. Нет ли в вас разочарования? Кажется, будто мы обратно откатываемся.
— Знаете, история никогда не идет обратно, она всегда впереди.
— После распада СССР сначала вся энергия была направлена на движение вперед, а сейчас все будто хотят вернуться обратно.
— Мне кажется, в 90-х у того поколения появилась возможность ездить туда, где существовал некий миф, воображаемый мир. Это важно осознавать. Был [кино]хит 90-х годов «Плащ Казановы». В нем прекрасная Инна Чурикова поехала в Венецию со своей идеей о Венеции. Так же и страна пошла проверять этот миф. И у многих, когда они приезжали туда, происходило столкновение с реальностью. Потому что мифа нет. Нет рая.
Когда мы говорим о 90-х, мы рассуждаем так, будто это было два века назад. А это было вчера утром для истории. Я разочарования не чувствую в том, что было в то время. Я чувствую, что здесь есть огромная энергия. Я руководствуюсь этим. Здесь есть молодые ребята, которые знают свою работу, любят свою страну и хотят делать ее лучше и лучше. У себя в стране я этого не чувствую. Там уже никто ничего делать не хочет. Там потерялся тот самый большой нарратив. Это очень сложный и большой разговор при таком маленьком словаре, который у меня есть. В моем фонде сейчас работают 70 ребят. Среди них самый старший — 35 лет. Для многих это первая работа. Но у них у всех есть убежденность, что надо строить, надо создавать, надо делать это вместе. И это прекрасно.
II
О ГЭС-2 и десакрализации музеев
— Такое ощущение, будто самой ГЭС [до нынешнего момента] не существовало. Ты всегда будто проскальзывал мимо. Почему это место?
— Я была против. Но оно связано с Леонидом Михельсоном, который десять лет тому назад захотел создать этот фонд и скептически думал, что что-то из этого получится или обретет какое-то значение. Сначала все было будто в шутку. А затем все стало значительно. У него появилось желание (абсолютно русское) что-то делать для своих и никогда о них не забывать. Мне кажется, это очень русское качество. Он мне тогда сказал, что то, что мы делаем в Венеции, нужно показывать в Москве. Я начала искать помещение, но и не думала о площадке такого масштаба.
Я была в шоке от объема этого пространства. Мне казалось, что это нечто неподъемное. Он (Михельсон. — Прим. The Blueprint) мне дал неделю на раздумья, а через неделю я вернулась и спросила, понимает ли он, что это не тот выставочный зал, который был у нас в голове изначально. Потому что сюда мы можем привезти не только нашу выставку, а целую Венецианскую биеннале. Для меня, скорее, Болотная набережная ассоциировалась с Болотной площадью, «Ударником», «Красным Октябрем». Я ему сказала, что самое важное — вернуть это место на карту. Вернуть жизнь этому месту, вернуть его людям. Это очень простая идея. В ней было и то, что он хотел: делать все для своих.
Я говорила Ренцо Пиано, что это жест щедрости — вернуть это место. С другой стороны, все понимают, что индустриальная архитектура, которая теряет свой функционал, становится грубым, забытым воспоминанием о прошлом. В основном везде в Европе жизнь в таких местах будто брошена, потеряна. Поэтому мне показалось верным вернуть туда жизнь, которая будет связана с культурой. Именно с жизнью города. Город — это ведь не здания, а люди. Мне кажется, что это пространство должно прежде всего быть открытым людям.
— А когда и как появился Ренцо Пиано? И почему именно он?
— Когда узнаешь Ренцо, понимаешь, что он больше, чем архитектор. Он поэт, он человек очень эрудированный, очень чувствительный, он про красоту. Он не про форму, а про содержание красоты. Это очень глубокая история. Ренцо появился сразу, у меня даже не было никого другого в голове — и никакого сомнения. И до сих пор я на сто процентов убеждена, что он верный человек. Вот это восстановление умершей индустриальной архитектуры и наполнение ее культурой — то, в чем мы с ним сошлись. У Ренцо в Италии была программа, описываемая словом, которое я не могу перевести на русский. Оно означает, что когда у вас что-то рвется, вы это зашиваете. Он говорит, что зашивает эти порванные места в урбанистическом пространстве. И это одно из таких мест. Лишенное истории и личности.
Мы с Ренцо думали о создании пространства, которое может меняться. Там есть большие площади, там есть углубления внизу, где выставочное пространство, где есть хранилище и парковка. Пространство развивается вертикально и горизонтально. Есть офисы и рестораны. Самый первый эскиз Ренцо (который мы, видимо, будем где-нибудь выставлять) он рисовал в свой первый приезд на бумажной салфетке, прямо как в кино. У него было два фломастера: синий и красный. Он нарисовал эскиз здания синим и сказал: «И вдруг должна взорваться современность». И начал рисовать красным все, что выходит оттуда. Это очень красивый образ.
— Вы все время говорите, что ГЭС-2 — это не музей. Так что же это будет?
— Сначала нужно задать вопрос, что такое музей. В 2020 году музей везде в мире уже не о консервации экспонатов. Даже в России. Во-первых, здесь никогда не будет какой-то постоянной экспозиции. Даже той коллекции, которую мы собираем. Она будет находиться в хранилище. Потому что само по себе произведение — не реликвия, а рассказ. Для нас это инструмент работы. Эти произведения, эта коллекция — они нам нужны, чтобы создать какие-то рассказы. Это первое отличие от идеи самого музея.
[Во-вторых] мне хотелось десакрализировать это пространство. Чтобы оно было больше связано с жизнью города, людей. Чтобы оно было частью города. Чтобы не было вот этого «надо собраться и сходить в музей». Иначе это означает ставить себя в заведомо пассивную позицию. Потому что ты туда пойдешь, потому что тебе будут что-то показывать и рассказывать, а что-то будет непонятно. А мы хотим, чтобы люди приняли участие. Чтобы люди чувствовали себя в своем городе. Нужно изменить эту идею: чтобы люди не собирались пойти на ГЭС — а просто зашли на ГЭС. Чтобы выпить хороший кофе, потому что там кто-то читает лекцию, потому что там для детей что-то делают. Это все должно быть без барьеров. Я все понимаю, что времена сейчас тяжелые и барьеры, которые создаются во всем мире, иногда необходимы. Но я буду надеяться, что у нас их будет очень мало и они будут незаметны.
Исторические фотографии городской электростанции. Начало XX века
Визуализация проекта ГЭС-2
III
О финансировании искусства
— V-A-C 10 лет. Что у вас изменилось за эту декаду, помимо появления этого мегапроекта?
Раньше мы просто придумывали, я приходила к Леониду: «Давайте вот это сделаем?», он: «Ой, как это хорошо, давайте сделаем!» Надо сказать, что он всегда давал нам стимулы. А сейчас у нас идет стройка. Есть наше пространство в Венеции, где нужно делать два проекта в год и у каждого из которых своя публичная программа. Одна [такая] история полностью запущена. Здесь строим огромную территорию. Нам нужно делать проекты в городе, мы не можем остановить эту машину. Одновременно нужно разрабатывать программу на три года вперед.
Это огромная история, и это нелегко. Будет легко лет через пять, наверное. Может быть. Мне кажется, мы стараемся.
— Сейчас много скандалов в разных культурных институциях, связанных с происхождением финансирования. В Уитни огромный скандал, в Tate, Serpentine. Фактически повалилось как карточный домик — одно за другим.
— Много можно было бы сказать по этому поводу. Много таких примеров.
— В Америке, например, часто такие учреждения появляются, чтобы отмыть деньги.
— Да, но это не только в Америке. В нашем случае есть большой первоначальный грех, что мы хотим создать публичное пространство, но оно полностью финансируется частно. Мы с Леонидом об этом говорили, он понял, что этот проект — дорогое удовольствие. Оно не закончится в тот момент, когда его откроешь. Оно тогда только начнется. И содержать такое сооружение безумно дорого. На одном ужине Николас Серота, директор Tate, рассказывал Леониду, как складывается финансирование Tate и как все живут с мифом о том, что продажа билетов — очень важная часть [дохода музея]. Он сказал: «Знаешь, у меня в Tate очень много посетителей. Некоторые из них платят меньше, некоторые больше. Но если я соберу все эти деньги, их мне едва ли хватит, чтобы купить в музей туалетную бумагу». У Леонида был шок.
После этого мы стали говорить об endowment (целевой капитал некоммерческой компании, сформированный за счет пожертвований. — Прим. The Blueprint). Сейчас все так делают. Мы открыли это три года назад. Endowment — это система независимости. Когда ты полностью зависишь от финансирования одного человека, не дай бог что, это может неизвестно чем кончиться. Чтобы обеспечить проект в будущем, нужно быть независимыми. Поэтому мы решили так сделать.
Если завтра придет какое-то финансирование из какого-то одиозного производства чего-то там, будем ли мы брать эти деньги? Это отсылает к вопросу, который всегда существовал в мире искусства. Искусство без денег существовать не может. Было время, когда мне люди говорили, как же мне не стыдно работать для такой олигархической институции. А как делают другие? Откуда-то ведь надо деньги взять. Помните поговорку «деньги не пахнут»? Не знаю, бывают ли деньги грязными. Это не наш случай. У нас абсолютно все с этим прозрачно.
IV
О глобализации
— В одном из интервью вы говорили, что в Европе тоже сложный процесс, Евросоюз не вполне себя оправдал, а у России есть все шансы начать культурный процесс «сбора» Европы. Каким образом, если мы себя все время противопоставляем им?
— Мой друг Барт де Бар, директор музея [современного искусства MUHKA] в Антверпене, также абсолютно убежден в этом, как и я. И мы, в отличие от вас, оба из Европы. Мне кажется, что это опять про мифы. Это опять про то, что не создали культурную программу. Культурной повестки в Европе не было. Они создали таможенную зону, финансовую. Но забыли про душу, про то, что там есть люди. Они сказали, что все должны забыть о локальности и мыслить только в условиях глобальности. Это привело к тому, где мы сегодня находимся. Европы не было и нет. Это просто миф. Есть Шенген, это другая история, не Европа. Европы как единого культурного пространства я не вижу.
— Неужели нет старой цивилизации?
— Где вы ее видите, эту старую цивилизацию? Сегодня везде в Европе рождается национализм, искусственный откат назад. У нас есть такой же пример, как Трамп. Он говорил так же, как America first — только Italy first. Кто-то и во Франции так же говорит. Англия уже отделилась. Где вы видите что-то, что нас соединяет идеологически, культурно? Потому что надо было начать задавать вопросы о глобализации. О том, что это должно значить. В результате мы ее сделали как бы совсем другой. Это фиктивная, искусственная, накладываемая сверху глобализация. Это привело к тому, что на Сицилии, например, люди в супермаркетах покупают помидоры, которые привозят из Турции. Это глобализация? Это правильный и верный путь? Я в этом сомневаюсь.
Глобализация не могла быть просто о том, чтобы стереть идентичности и создать что-то фиктивное. Это не сработало. Если бы я должна была вам сегодня репрезентовать Италию, я бы сказала так: «Старушка устала». Просто с трудом двигается. Я люблю Италию, это моя страна. Мы все ее любим из-за прошлого, из-за того, что там есть искусство, красота прошлого. Сегодня — о чем это? Воссоздать это — большая задача. Мне кажется, что в России есть эта энергия, о которой мы говорили, этот голод по новому, желание создавать. Я здесь ее вижу. Когда я об этом говорю, то сталкиваюсь с абсолютным скепсисом. Люди думают, что я полная сумасшедшая. Наверное, потому, что я все-таки чужая этому контексту.
Мне со стороны четче видно, как это происходит. Европа как бы исчерпала свои силы. Это даже не только про Европу. Это про мир, который совсем стал другим. Никто из нас десять лет тому назад не думал, что наступит мир, в котором строятся стены, чтобы отсоединить народы, в котором закрываются порты, чтобы лодки с мигрантами не могли въехать в город. Это происходит у меня в стране, это происходит в стране, которая называется Италия и которая всегда была страной мигрантов, людей, которые двигались по морю. Мы страна портов. И мы сегодня их закрываем. Я не знаю, что это за меры. Это не моя Италия.
Я хочу верить, что здесь [в России] очень много молодежи, которая любит свою страну. Эту любовь там я не вижу. Это звучит в стиле «загнивающего Запада», но я говорю это немного с другой точки зрения. Я говорю не про политические истории, а про анализ исторических процессов, которые происходили последние 30 лет и которые очень сильно изменили все. Если мы не создадим новую культурную повестку, мне кажется, мы никуда не пойдем.
команда:
РЕЖИССЕР-ОПЕРАТОР:
СЕРГЕЙ КОСТРОМИН
ИНТЕРВЬЮ:
АЛЕКСАНДР ПЕРЕПЕЛКИН
Редактор:
Ольга Страховская
Продюсер:
Арт-директор:
Сергей Пацюк
ОПЕРАТОР:
НИКИТА ЗЕЛЁНЫЙ
Свет:
Александр Куликов
Звукорежиссер:
Станислав Паушев
Визажист:
Екатерина Горелова
Музыка:
ХАН
МОНТАЖ И ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ:
ИЛЬЯ ПЕТРОВ
Съемка дополнительных материалов:
SUPERBASIC
Видео со строительством:
Рабочий материал документального фильма «ГЭС-2», режиссер Анастасия Коркия
фото:
АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ




