
Уход в лес
ФОТО:
АРСЕНИЙ НЕСХОДИМОВ
Шестого июля на территории музея-заповедника
«Горки Ленинские» откроется проект «Лес. Художественно-терапевтическая тропа». Архитектор Иван Щетинин разработал маршрут в два километра мимо объектов тринадцати художников, включая Леонида Тишкова,
Ольгу Божко, Гоги Тотибадзе, Даню Пирогова и Никиту Кроко. Проходя по нему, зрители испытают на себе «лесотерапию» — чтобы убедиться в ее действенности, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины измерят физиологические показатели участников. По просьбе
The Blueprint искусствовед Елизавета Климова пообщалась с автором идеи и куратором проекта Ниной Гомиашвили о лесотерапевтах, ресайклинге и любимых брендах.
Почему современного человека тянет в лес?
В городе постоянно надо быть начеку: чтобы на тебя не наехал автомобилист или доставщик еды, например. К тому же мы все страшно торопливые. Скорость — это кортизол, а кортизол — это стресс.
Когда мы находимся в лесу — не занимаемся йогой и не стоим в странной асане, а вдумчиво по нему гуляем, — на физиологическом уровне происходит удивительная штука. У деревьев есть биологически активные веществы — фитонциды, их открыл Борис Токин в 1920-е годы. В общем, мы вдыхаем эти самые фитонциды, а дальше они начинают взаимодействовать с нашими клетками. И занимаются генеральной уборкой организма.
Наше время похоже на калейдоскоп. Картинки сменяются каждую секунду. Те же самые галереи, те же самые художники, все то же самое, просто тюк-тюк-тюк — и новый узор.
А вы сами городской человек или природный?
Городской человек, любящий природу. Живу между домом и дачей. Обожаю многочасовые прогулки в лесу с собаками — это совершенно терапевтическое состояние. Только тогда я не думаю ни о чем постороннем и могу собраться с мыслями. Это дико важно иногда.

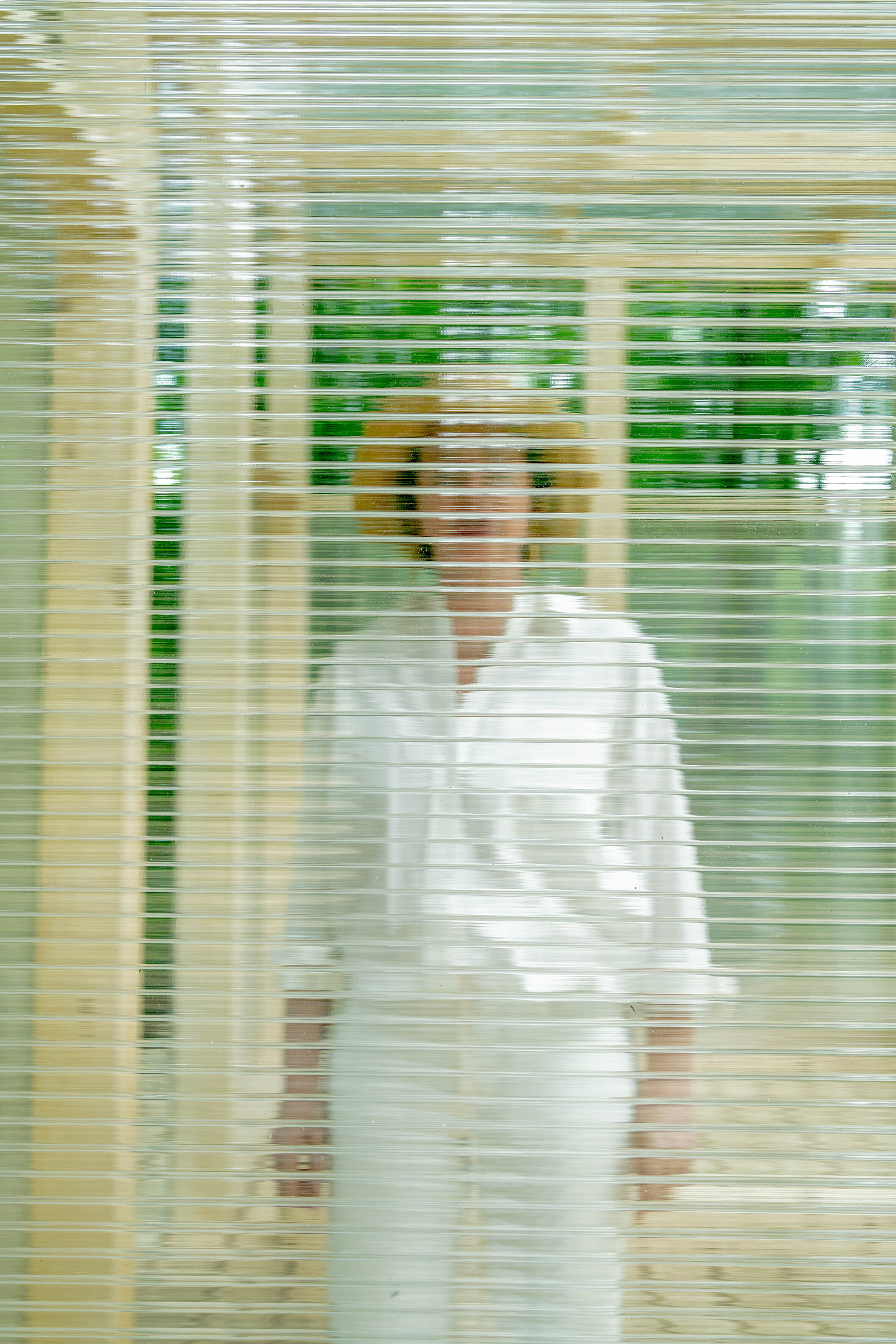
Вернемся к лесу. Как возникла идея проекта
«Лес. Художественно-терапевтическая тропа»?
Все самое важное, точное и безошибочное происходит молниеносно. Эта идея родилась за чашкой кофе в ресторане «Уголек», где мы сидели с моей подругой и будущим продюсером проекта Нино Маисаиа.
У меня давно возникло желание выйти из четырех стен экспозиционного пространства. В спокойном аквариумном мире музейных и галерейных выставок не хватает жизни. Хотелось расшириться, убрать стены, освещение. В последнее время я много думала, что было бы здорово что-то сделать на улице, в городе, использовать не inside-, а outside-пространство. Чтобы был воздух.
На встрече с Нино родилась идея синергии ленд-арта с японской практикой синрин-йоку («лесные купания»). Эта практика подразумевает гуляние в лесу. В идеальном мире — в дремучем, совершенно девственном лесу. Поэтому, когда появился вариант Ленинских Горок, я первым делом спросила: а как у вас тут с дремучими лесами? Директор, душа-человек, ответил, что у них есть достаточно большой кусок леса, принадлежащий музею-заповеднику.
Никто туда не ходит, не ездит. А еще там овраги. И я поняла, что это оно.

Во время прохождения тропы можно будет воспользоваться помощью лесотерапевтов. Кто это такие?
Лесотерапия — это про концентрацию внимания, медитацию; про ощущение себя в данный конкретный момент. Я вот до недавнего времени не знала, как выглядит цветок клена и что клен вообще цветет. Лесотерапевт нужен ровно для того, чтобы обратить внимание на такую банальную вещь. На лесотерапевта учат в основном в Японии, там огромное комьюнити. Но у нас тоже есть несколько школ.

Когда мы находимся в лесу — не занимаемся йогой и не стоим в странной асане, а просто спокойно идем — на физио-логическом уровне проис-ходит удивительная штука.
А как вы отбирали художников для проекта?
Интуитивно. 80% объектов, которые мы показываем, сделаны для экспозиции специально. Но было нескольких точных попаданий, как, например, серия Леонида Тишкова про спасение елки, которую он снял много лет назад в 2000-е и никогда не показывал. В нашем лесу состоится премьера.

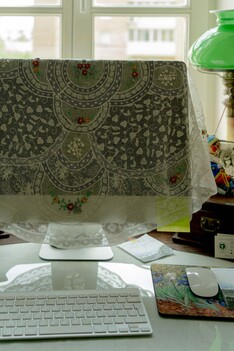
Давайте поговорим об экоповестке. Как вы считаете,
природу нужно спасать? Или сама справится?
Природа сама себя спасет. У меня перед глазами стоит чудесная картинка: в Нью-Йорке, в Сохо, есть улица, которая называется West Broadway. Она не очень широкая, там две полосы, по-моему, максимум четыре. Брусчатка лежит стариннейшая, и по ней машины шныряют туда-сюда.
В ковид все закрылись. Буквально через две-три недели после начала самоизоляции я получаю фотографии от своих друзей, которые живут на West Broadway, и вижу, что сквозь эту брусчатку выросла трава. Мы пришли сюда совсем ненадолго. Так что нужно заниматься только тем, что находится вокруг каждого из нас. Навредить мы можем только самим себе. Это не значит, что не нужно быть сознательным и бросать, прости господи, окурки мимо урны. Но брать на себя высокую роль спасителя мира — высокомерие.


А что вы думаете о так называемых эковандалах, молодых ребятах, которые приклеивают себя к картинам или обливают их супом во имя спасения природы?
Мне их жалко. Мы же понимаем, что к экоповестке это не имеет никакого отношения. Это про возвышение себя. «Я правлю бал, рассказываю, что нужно сделать», — понимаете, да? Правлю, наступая ногой на прекрасных художников, на музеи, да вообще на всех.

Когда я училась в Америке в 1990-х, в нашей компании считалось стремным покупать джинсы в магазине.
Мы закупались только в секонд-хендах.
Как вы относитесь к ресайклу? Вообще и в искусстве. В прошлом году был настоящий текстильный бум, и многие художники говорили, что выбирают текстиль, потому что им близка экоповестка и понятие ресайкла.
Без истерики. Я не использую многоразовую трубочку и не ношу с собой металлический стакан. Мусор тоже не сортирую.
Что касается ресайкла в искусстве. Год назад я открывала групповую выставку в фонде RuArts, она была связана исключительно с текстилем. У нас была чудесная художница Варвара Гранкова, которая делала Солнечную систему, нанизывая на металлический каркас гигантские планеты. Планеты она обвязывала по цветам и тональностям отданной на переработку одеждой, которую откуда-то мешками заказывала. Было очень интересно. Но пахло ужасно. Впрочем, к открытию подвыветрилось.


Вы носите винтажную одежду?
Когда я училась в Америке в 1990-х, в нашей компании считалось стремным покупать джинсы в магазине. Мы закупались только в секонд-хендах. Правда, это касалось исключительно джинсов, потому что я даже представить не могла, что можно что-то другое на себя надеть. А на свадьбу дочери в 2015 году я купила в Нью-Йорке совершенно потрясающее кутюрное платье Nina Ricci за 200 долларов — бомбически выглядело.
У меня есть какое-то количество кутюрной одежды, купленной в нью-йоркских секондах. Я люблю сама ходить по магазинам и искать что-то интересное, в этом есть ощущение охоты. Потом, когда находишь какую-нибудь потрясающую вещь за две с половиной копейки, всегда так приятно. Как будто что-то выиграл.
Мы пришли сюда совсем ненадолго. Так что нужно заниматься только тем, что находится вокруг каждого из нас. Навредить мы можем только самим себе.



У вас есть любимые бренды?
Для меня одежда — это такое страшно личное. И из наших ребят, наверное, Walk of Shame и Андрюша Артемов. Скорее всего, из-за личного отношения — мы давно дружим. У него совершенно удивительное чувство юмора, скорее даже чувство иронии. Он очень элегантно ее вписывает в свои вещи. И мне в них уютно. А еще я в них чувствую себя просто — это тоже очень важный момент.

Как вы относитесь к коллаборациям художников с разными брендами?
Есть такие, как Яеи Кусама и Louis Vuitton. Когда покупаешь сумку и непонятно —
это произведение искусства или люксовый товар. А есть что-то более массовое, доступное, типа коллабораций Befree с художницами Александрой Гарт или Ritul (Ритой Сапоговой). Искусство должно ориентироваться на массовый продукт или на что-то более элитарное?
Befree прекрасные, они мне очень нравятся! Совершенно свободные, такие светлые и бесшабашные. Я у них покупаю подарки для племянниц. А насчет коллабораций вообще — надо привыкать к тому, что повседневный объект, даже тот, который ты надеваешь на себя, может быть искусством. Относиться к нему надо соответствующе. Это хорошая привычка!

Надо привыкать к тому, что повседневный объект, даже тот, который ты надеваешь на себя, может быть искусством. Отно-ситься к нему надо соот-ветствующе. Это хорошая привычка!
Чего не хватает современному искусству?
У меня нет мнения на этот счет. Думаю, это вопрос времени. Оглядывания назад. Мы сейчас находимся в самом эпицентре, в воронке. Скорость, с которой все происходит, эти выставки, которые открываются одна за другой... Искусству не хватает замедления, осознанного понимания процесса.


Сейчас все смотрят выставки через камеру телефона. Люди стали не зрителями, а ретрансляторами. И многие кураторы уже это учитывают, например, делают специальные фотозоны и так далее...
Да, так происходит. Я как куратор стараюсь это минимизировать. Это мешает накоплению энергии, которая должна выплеснуться в день открытия.
Это как рекламный ролик посмотреть и сказать, что ты видел весь фильм. Конечно, и я сама могу в день открытия какой-то чужой выставки быстро посмотреть в инстаграме, что там есть, и понять, интересно мне это или нет. И даже если интересно, я уже все увидела, какой смысл идти? Наше время похоже на калейдоскоп. Картинки сменяются каждую секунду. Те же самые галереи, те же самые художники, все то же самое, просто тюк-тюк-тюк — и новый узор.



Если говорить о современности, о том стрессе и тех скоростях, в которых мы существуем, можно ли сказать, что мы заблудились в лесу? Как найти дорогу обратно?
Не заблудились. Скорее, уединились каждый в своей норке. Мы перестали быть муравейником в хорошем смысле. Мне кажется, что это самая большая проблема. Хочется жить вместе. Но в ближайшем будущем, увы, этого не случится.
Возможно, помогут лесотерапевты?
Заодно и узнаем.




