МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ
На открытии выставки Чжана Хуаня «В пепле истории» старший редактор The Blueprint Марина Анциперова встретилась с директором Эрмитажа, чтобы поговорить с ним о любимом современном искусстве, снобизме как маркетинговой стратегии, свободе и музейном будущем.
фото:
маргарита смагина

Эрмитаж — неизменно самый посещаемый российский музей, а Михаил Пиотровский — так же неизменно — его директор: он руководит Эрмитажем вот уже 30 лет. Его отец, Борис Пиотровский, руководил тем же музеем 26 лет. При всей консервативности наследия и подхода в том, что касается современного искусства, Эрмитаж частенько опережает московские музеи: выставку Мэпплторпа здесь показали еще в 2004 году, инсталляцию Аниша Капура — в 2010-м, во время Manifesta 12 в 2014-м здесь запланированно разбили автомобиль во дворе о дерево. На примере Эрмитажа также можно отследить реакцию современного российского общества на современное мировое искусство. За последнее десятилетие редкая выставка современного искусства здесь обходится без возмущения публики: про Фабра можно не напоминать, работы братьев Чепмен проверяли на экстремизм, инсталляцией во дворе последней выставки Чжана Хуаня заинтересовались коммунисты. О финансовой поддержке государства, внимании общества и мире после пандемии The Blueprint поговорил с негласным символом музея Эрмитаж.


В вашем интервью «собаке.ру» вы говорили, что с 16:00 до 17:00 у вас в расписании час на размышления, который вы стараетесь не занимать никакими другими делами. Сейчас как раз 17:00 — о чем вы думали последний час?
У меня в календаре каждый день два часа действительно распланированы как бы для того, чтобы думать, но одновременно они же уходят на общение с журналистами. Так было и сегодня, когда этот час с четырех до пяти заняла дискуссия, где мы вместе с ними думали о судьбах музеев в мировом масштабе, про пандемию. Мы обсуждали на самом деле очень интересные вопросы, связанные с музеями — как особыми территориями, которые нуждаются в особых правилах и особом отношении.
А музеи — особые территории во всех отношениях, от налогообложения до правил политкорректности. Существуют, например, особые таможенные правила по перевозке именно музейных ценностей через границу. По большому счету на музеи не должны распространяться высокие общие правила — например, в музее нельзя делать того, что можно делать на улице, в музее можно пробовать вещи, которые эпатируют публику. То, что находится в музее, прежде всего искусство, а потом уже все остальное. Икона, которая находится в музее, — это искусство, поэтому она не оскорбляет других приходящих в музей, это не богохульство.
Разве улица — в противовес музею — не была всегда большим пространством свободы? Перформанс родился на улице, и все большие провокационные перформансы происходили в основном не в музеях.
Все начиналось действительно на улице — но когда это было? На улице действуют правила общества, а музей выделен из общества. Музей вырывает все вещи из контекста, как, впрочем, и людей. Вы вошли в музей с улицы, и вы должны забыть эту улицу. На ней плохо и страшно, а в музее должно быть уютно. Но для этого вы должны вжиться в эту самую музейную среду, атмосферу. Этот особый мир для того и создан. Он концентрирует в себе и историю, и культуру, и разные подходы вместе. Такая свобода — это особая свобода, это свобода не человека, а того, что находится в музее.
Вы хотите сказать, что в музее вещи становятся свободными?
Именно так. А вы — нет. Вы не можете делать что хотите, а вещь — ваше произведение искусства — может говорить любые гадости. Но вы не имеете права говорить гадости, если вы не делаете перформанс.



В одном из ваших старых интервью начала 2000-х вы говорили, что в мире есть два великих ныне живущих современных художника: Ансельм Кифер и Ян Фабр. Их выставки в Эрмитаже случились спустя 15 лет, в 2016 и 2017 году. Видимо, к их списку можно добавить и Чжана Хуаня, выставка которого открылась сейчас. Каким вообще должен быть современный художник, чтобы вам понравиться?
Скажем так, шутя: если мы делаем выставку этого художника в Эрмитаже — то он великий. На самом деле критериев может быть разных очень много: ситуация постоянно меняется. Живущие художники сегодня могут быть великими, а завтра уже нет. Люди в какой-то момент могут быть безумно созвучны своему времени, но все действительно очень сильно зависит от ситуации. Чтобы художник оказался великим, нужно не только собирать его работы, но и продвигать его, чтобы его значение увеличилось. Все-таки величие определяется мнением публики, меценатов, коллекционеров, но оно может не сохраниться потом. Это определяет, конечно, время.

У всех трех художников, которых я назвала — Фабра, Кифера, Хуаня, — временные выставки. Вам бы не хотелось, чтобы их произведения остались в Эрмитаже навсегда, у вас нет такой жадности?
Что-то должно оставаться. Лебедь Фабра («Глупость опирается на смертность» (2016), чучело лебедя на безглавом скелете) остался. Он стоит в зале 245 — совершенно потрясающе смотрится, хотя это многих раздражает и возмущает. Выставка — это особая вещь. Вот сейчас, когда мы много работали онлайн, эрмитажное телевидение проводило разные экскурсии — в том числе и в инстаграме. Экскурсия, которую ведет живой экскурсовод, бывает один раз, в инстаграме их стирают, это совершенно другой жанр, чем экскурсия, снятая заранее: человек говорит свободно, может ошибаться, ругаться. Он понимает, что это другая ответственность, чем если он запишет лекцию заранее. Так и выставка: она не то что эфемерна, она построена не навсегда. Хорошо, конечно, было бы все это оставить, но тогда было бы невозможно поставить что-то другое.
На открытии сказали, что Чжан Хуань одну из работ оставит Эрмитажу. Какую из работ на выставке вы бы купили себе, если бы могли купить любую?
Не скажу, так как должен выбрать для музея — одну из работ художник действительно обещал подарить. Мы будем совещаться и обсуждать. Поэтому ответа пока нет, но выбор будет очень сложным: среди этих работ есть аллюзии на наши эрмитажные произведения, есть работы, которые очень созвучны нашей эрмитажной коллекции.
А для себя все же? Я бы выбрала «Любовь».
Для себя, честно говоря, не брал бы ни одной: они все большие. «Любовь» будет просто негде повесить. Для нее нужно строить павильон [чтобы она звучала во всю силу]: потому что она пронизана болью. В этом году, когда все получили от Китая боль, Китай посылает нам любовь. И две работы из этой серии — очень сильные, с ними жить, по-моему, невозможно.

Как бы вы объяснили пятилетнему ребенку, про что выставка Чжана Хуаня? Здесь и история рассыпается, и пепел монастырей, и коммунистическое прошлое, стервятники разбирают тело во время тибетского похоронного ритуала, и любовь и боль во время пандемии. И попытки восточного мира охватить историю искусства европейского...
Пятилетнему ничего объяснять и не надо. Я бы ему только сказал, что есть такие вот эрмитажные картины, и повел бы его их показать. И рассказал бы, возможно, какие-то информационные детали про залы. Пятилетнему ничего не нужно объяснять: он и так все поймет, а если нет, то пока ему этого понимать, значит, и не нужно. Эмоциональное восприятие тоже подходит для всего искусства, не обязательно для этого знать о восточной традиции и так далее. Эмоциональный уровень для всякого чувствующего человека всегда существует, чтобы понять какую-нибудь гору вещей в виде инсталляции.
На первых этапах пандемии вы говорили, что Эрмитаж теряет по 7 миллионов рублей в день. Уже можно подводить итоги потерь?
Итогов мы особенно не подводим, а тогда говорили, что потеряли все. Но что значит терять? Музеи должны быть бесплатные, поэтому нечего терять. Хочется, чтобы люди могли просто приходить в музеи. А вообще я считаю, что у музеев не должно быть этикеток, они должны приходить подготовленными. Критерий заработка удобен, когда мы требуем у государства, чтобы оно защищало музеи, защищало и охраняло культуру.
Да, зрителей сейчас стало меньше, но зато им очень удобно ходить по музею. Когда посетителей станет больше, им будет уже не так удобно. Хочется вынести что-то полезное из ситуации, которая была нам навязана: соотношение билетов, которые куплены заранее и нет, позволяет избегать очередей, которые бывают унизительными. Подготовка, проведение по маршруту — это меры, которые давно надо было сделать. Пандемия отчасти порядок в мире навела.


Как вы думаете, пандемия изменит мир музеев? Эпоха выставок-блокбастеров, которые заманивают туристов со всех концов мира, закончится?
Выставки-блокбастеры — это выставки, которые приносят большие деньги. Они, конечно, вернутся обратно, но я считаю эту [финансовую] схему плохой. Несколько раз музейное сообщество решало, что больше не делает такие выставки, но потом все равно приходится их делать: меценаты требуют деньги зарабатывать. Но потом приходит какой-то экономический кризис, и люди начинают делать выставки умные, хитрые. А потом опять приходят блокбастеры.
Так что блокбастеры в музеях, конечно же, вернутся, но до того будет время подумать, какие выставки нужны. Выставки в музеях сейчас посещают местные жители, мы обсуждали это недавно с итальянскими коллегами — в итальянские музеи сейчас приходят только итальянцы: вот это событие. В Лувр ходят парижане. Им, конечно же, тоже нужны выставки: просто так в Лувр они ходить не будут. Какие выставки нужны тем, кто живет здесь, кто все видел, кто музей знает? У нас в Эрмитаже выставки рассчитаны на человека, который постоянно ходит в Эрмитаж, — их хочется сделать более примечательными и приучать посетителя к сложным вещам. Блокбастеры тоже не простая вещь, но с ними проще. А мне хотелось бы приучать зрителя к тому, чтобы докапываться до деталей.

Давайте поговорим про популизм и паттернализм. Третьяковка запускает образовательный вагон в московском метро, Пушкинский делает сувениры в виде носков с Давидом. У Met есть великий бал Met Gala, а в Лувре поет Бейонсе. Эрмитаж не хочет так работать?
Нет, у нас просто немного другие свои критерии того же. Мы рассчитываем на другой популус. Клип с Бейонсе, как я считаю, получился ужасным. Первый раз я его посмотрел на вокзале в Милане. Наш ответ на выставку Эрмитажа в Амстердаме (в выставочном центре Эрмитажа показали 50 работ эрмитажного собрания — в том числе «Три грации» Антонио Кановы, работы Жана Антуана Гудона, Антона Рафаэля Менгса. — The Blueprint) пришел Королевский балет Нидерландов, и они сняли клип танцев среди этих эрмитажных статуй. Это тоже в общем-то для популярности.
Понятно, что есть рецепт — приглашать знаменитость в музей, Сергей Шнуров, конечно, в этом смысле не совсем подходящий [пример], но он наш друг [и часто аффилируется с музеем]. Есть люди, на которых ты рассчитываешь и сохраняешь в какой-то мере [свой] снобизм. Но на самом деле мы делимся снобизмом. Я тысячу раз повторяю, что музеи теперь стали роскошью. Но эта роскошь, которая доступна всем в принципе. Все думают, что право на эту роскошь получено от рождения, но им подарили эту роскошь. Поэтому нужно каким-то образом на этом играть. Ты даешь роскошь, что ценишь сам как сноб — и делишься этим, в том числе и своими авторскими правами.

То есть маркетинговая стратегия Эрмитажа — это давать элитарную культуру?
Для всех. И делать ее популярной. Тем более что если ее правильно представлять, то она становится постепенно популярной. То, что у нас сегодня стало массовым, вчера было элитарным. Среди массового искусства мы находим что-то элитарное и показываем людям — в идеале, конечно.
Поэтому, вы считаете, баланс государственных средств и привлеченных в бюджете должен быть 60 к 40%?
Культуру вообще должно содержать государство — не важно, нравится это или не нравится. Вернее, общество, а не государство. Культура сама по себе не может существовать, это не коммерческая вещь. А общество должно содержать ее из трех источников: государственный бюджет, общество в виде корпораций, меценатов и люди, которые покупают билеты. Когда эти три вещи сочетаются, музеи получают некую независимость. Соответственно, с государством получается правильное деление, как опыт показал: 60% субсидии государства, 40% билеты и меценаты.


60% государственных денег дают больше свободы?
Нет, соотношение. Свободу дает соотношение источников денег. Один источник денег — это плохо. Если у тебя один источник, то ты будешь делать проекты для толпы. Если для меценатов, то они ничуть не лучше государства. У них тоже свои запросы. Поэтому нужно, чтобы все три источника участвовали в жизни музея: тогда никто из них не вмешивается. У нас, сколько я директор, 30 лет, никто ни разу [в выставочный процесс] не вмешался. Публика пыталась вмешаться, а государство никогда не вмешивалось. Соотношение 60 к 40% дает, кроме всего прочего, некую гарантию существования. Вот, пожалуйста, случилась пандемия: нет ни денег, ни меценатов, хотя они потихонечку возвращаются.
Вы думаете, после пандемии стоит ждать нового регионализма, внимания к своим художникам и проектам?
Пока так будет: новые выставки будет возить невозможно. Сейчас повезут те произведения, которые обещано, но потом все остановится на какое-то время. Возить произведения искусства в наше время дорого и опасно: когда границы закрылись, у всех музеев гастролирующие экспонаты и выставки остались в других странах, и хорошо, что все вернулось благополучно. Но в какой-то момент будущее было непонятным. Поэтому какое-то время регионализм будет иметь место, но потом все вернется на круги своя, хочется верить, что уже в несколько других формах, менее туристических и более интеллектуальных.

В смысле политики во всем мире мы видим большой сдвиг на изоляцию — от России до США, Брекзита и так далее. Это касается музеев?
Музеи не существуют отдельно от политики, они существуют над. Вражда началась еще до пандемии, Россия — Запад, Америка с Европой, это деление началось еще до пандемии. Но музеи — это мосты, которые соединяют народы. И еще до пандемии я говорил, что это мост, который должен быть разрушен последним. Пандемия тоже начинает их взрывать, но мы должны их наводить, они должны быть, по ним должно быть движение, даже если в других вещах его не будет. Культура является большим достоянием, чем деньги, культуру не надо делить.
В одном из интервью вы рассказывали, что в мире принимать спонсорскую помощь от нефтедобывающих компаний, наряду с табачными, стало неэтично. Вы думаете, России это может коснуться?
Конечно. Есть несколько компаний, которые, исходя из этих причин, не пропагандируют себя. Когда мы делали выставку в Лондоне, там были протесты не против нашей выставки, а против BP, которая являлась меценатом. Это часть волны политкорректности и культуры отказа и жалоб, которая есть. России, конечно, это коснется, но иначе: у нас нет «черных жизней», у нас есть «желтые», есть Кавказ, Сибирь. У нас все немного по-другому, запретно то, что разрешено на Западе, — и будет своя линия политкорректности. Но вместе с тем у нас и так мало компаний-меценатов, что у всех можно брать… а скоро начнется, что у одних можно брать деньги, а у других нельзя.


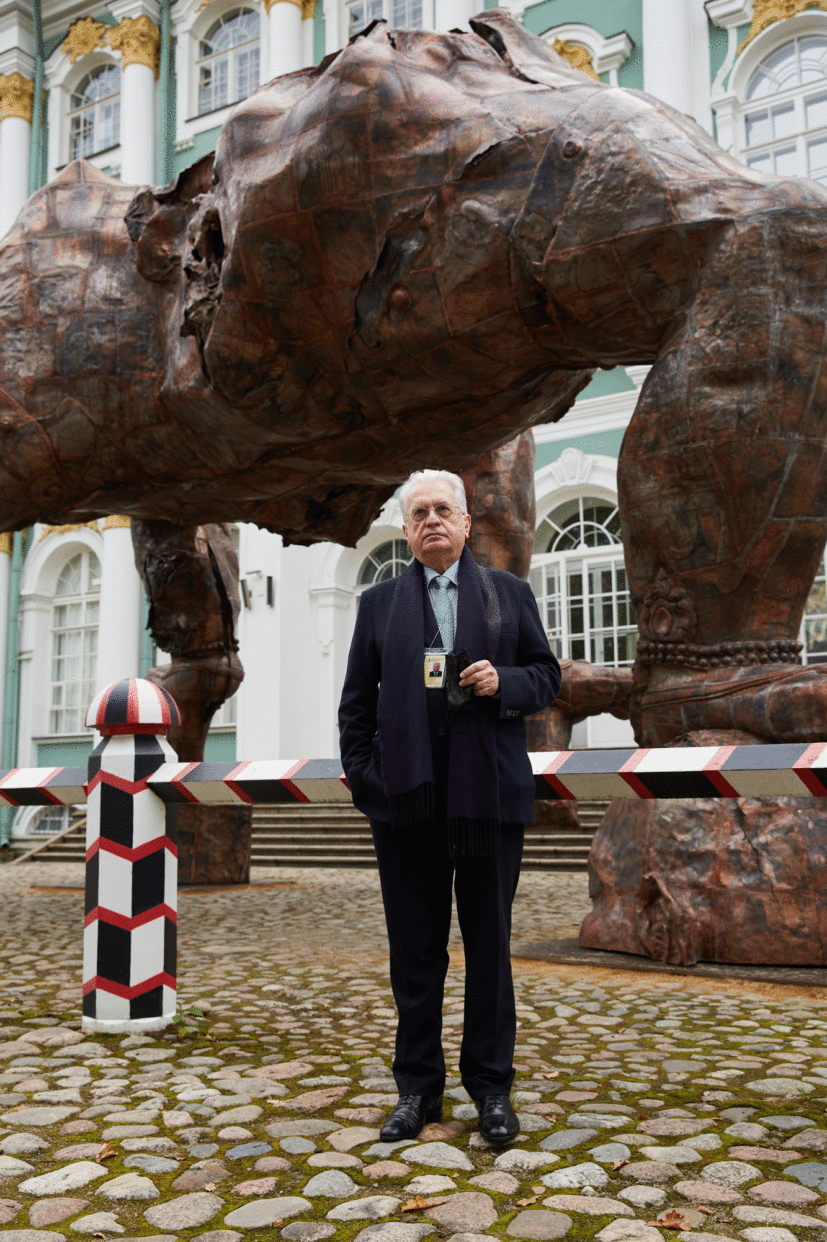


Общество сегодня все больше высказывает мнение, что должно быть в музее.
Я уже сказал, что музей — это священная территория. И мы здесь решаем, что должно быть в музее. Публика может высказывать свое мнение, и оно нам интересно: мы проводим социологические опросы и так далее. Но решаем мы — и публика не должна требовать запретов. В Эрмитаже у нас выставки на все вкусы: современное, новое, классическое, древнее искусство. Ни публика, ни государство, ни меценаты не должны требовать, запрещать. Они должны в целом нас поддерживать, давать деньги. Благодаря тому что у нас есть внимание публики, мы можем делать выставки, которые мы хотим, не в смысле политкорректности, а снобизма — итальянский рисунок XVIII века кому нужен? 50 человек придет его смотреть. Но мы можем такое делать, потому что в Эрмитаж стоит очередь — или стояла раньше. Здесь царит свобода искусства, а публика в своей свободе ограничена. Демократизация, доступность культуры, превращение всего искусства в массовое приводит к тому, что можно открывать дверь ногами, кричать, почему не пускают в Эрмитаж.
У вас есть образ директора музея, который для вас может быть эталоном?
У нас есть несколько образов. Я не буду из скромности говорить о своем отце. Но есть несколько: Филипп де Монтебелло, бывший директор Метрополитен-музея, Нил Макгрегор, бывший директор Британского музея. Они сочетали в себе элитность и демократизм, науку и умение общаться с людьми по-разному.
Сколько лет вы еще планируете быть директором?
Мой срок заканчивается через 2,5 года. Дальше у нас есть устав, по нему можно быть президентом [Эрмитажа]. Посмотрим. Все планирует судьба, мы организуем для нее лишь разные возможности.




