«Любить во сто крат сложнее, чем ненавидеть»
ФОТО:
Елена Елизарова, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
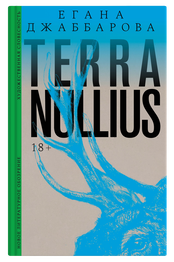
В октябре в издательстве «Новое литературное обозрение» вышел третий автофикшн-роман Еганы Джаббаровой — Terra Nullius. Вместе с двумя предыдущими — «Руки женщин моей семьи были не для письма» и «Дуа за неверного» — он составляет цикл об истории семьи Еганы, поиске места в этом мире и о потерях. Terra Nullius в переводе с латыни означает «ничейная земля», идеальное место, куда многие хотели бы попасть. О том, как эту землю видит сама писательница, а также о чувстве дома, бездомье, инструментах памяти и сломах автофикшна с Еганой Джаббаровой побеседовала литературная обозревательница Екатерина Петрова.

Книга Terra Nullius — это история о потере и поиске дома как физического, так и эмоционального, так называемого чувства дома. А что для вас дом?
Наверное, это один из главных вопросов романа: что такое дом? За последние два года у меня было много экстремального опыта, в том числе длительное бездомье (Егана Джаббарова родилась и выросла в Екатеринбурге в азербайджанской семье. В 2024-ом году была вынуждена эмигрировать — прим. The Blueprint). И в какой-то момент я действительно задумалась: что делает пространство домом? Очень быстро стало ясно, что стен и места, где ты спишь, — недостаточно. Дом — это пространство, где живут твои любимые живые и мертвые, где можно обнять близкого человека, погладить животное и знать, что завтра оно будет рядом. Для меня дом — это еще и сосуд для памяти. Место, где можно хранить фотографии, семейный альбом, где присутствуют следы тех, кого ты любишь. Где можно долго и методично готовить еду руками — месить тесто, лепить хинкали, печь пироги. Такая from-scratch-готовка требует времени и пространства, и именно в этом ритуале я снова чувствую, что у меня есть дом.
В Terra Nullius слово «дом» имеет много смыслов. Это и физическое пространство, и наследие, и словесность, и культура — потому что литература тоже может быть домом. Возникает вопрос: кто в него вхож, кто нет, могут ли слова стать домом? В какой-то момент, переживая затяжное бездомье, я вдруг поняла, что для меня слова действительно стали домом. Написание книги Terra Nullius буквально помогло мне не сойти с ума. Это был текст, в который я могла сбежать, пространство, в котором можно было выжить, сохраниться эмоционально и ментально.
”
В какой-то момент, переживая затяжное бездомье, я вдруг поняла, что для меня слова действительно стали домом.
В книге очень много описаний еды и продуктов, свойственных той или иной стране или культуре. И в целом у меня сложилось впечатление, что еда и совместная трапеза — это очень важный ритуал проявления любви. Насколько еда важна для ощущения чувства дома и места, в котором человек находится?
Это, конечно, зависит от того, в какой культуре ты вырос. Мне кажется, для многих восточных, тюркских или вообще коллективных культур еда — это, безусловно, любовный язык. Еда — это способ сказать «я люблю тебя», не произнося этих слов. В очень многих семьях мама не говорит напрямую, что любит, — она просто готовит еду и зовет к столу. Это ее способ признания в любви. Я тоже выросла в культуре, где еда — это «валентинка», способ выразить чувство. И одновременно — невероятно ценная форма знания, передаваемого веками. Знания телесного, тактильного, которое нельзя утрачивать. У моей мамы были тетради, куда она от руки записывала рецепты. Когда началась цифровая эпоха, я думала: зачем это нужно, ведь можно просто загуглить любой рецепт. А теперь понимаю, что нет — хочется иметь такую тетрадку, писать от руки. Потому что еда — это не просто комбинация продуктов. Это телесная передача знания, в которой живет культурный и даже генетический код. Сохранить рецепт матери, бабушки, прабабушки — продолжить диалог. Каждый раз, когда ты готовишь еду так, как готовили они, ты как будто разговариваешь с ними. Для меня это очень важный ритуал.
В Terra Nullius еда занимает много места. Там есть еда, которую герои готовят, и еда, которая растет сама — прорастает. Мы часто перестаем замечать, насколько удивителен сам факт, что мир дает нам пищу. Но это же чудо — ты приходишь в сад, и сад тебя кормит. Каждый раз, когда я вижу дерево, дающее плоды, меня накрывает щенячий восторг. Я понимаю, что это естественно, но все равно бегу рассматривать каждое дерево, каждый плод. Сам факт, что мы можем растить еду, что существует этот цикл, — по-прежнему поражает меня. С возрастом мое отношение к еде тоже меняется. Раньше я не понимала, зачем людям нужны сады, дачи. А теперь вижу в этом целый нарратив — историю, передаваемую через поколения. Ведь дача — это тоже форма любви, форма заботы и выживания. Люди выращивали еду, чтобы их близкие не остались голодными. В моем случае еда — это, безусловно, любовь. Иногда мы просим близких что-то приготовить, даже зная, что получится невкусно. Потому что важно не блюдо, а сам акт — то, что человек делает это ради тебя.
”
Еда — это способ сказать «я люблю тебя», не произнося этих слов.
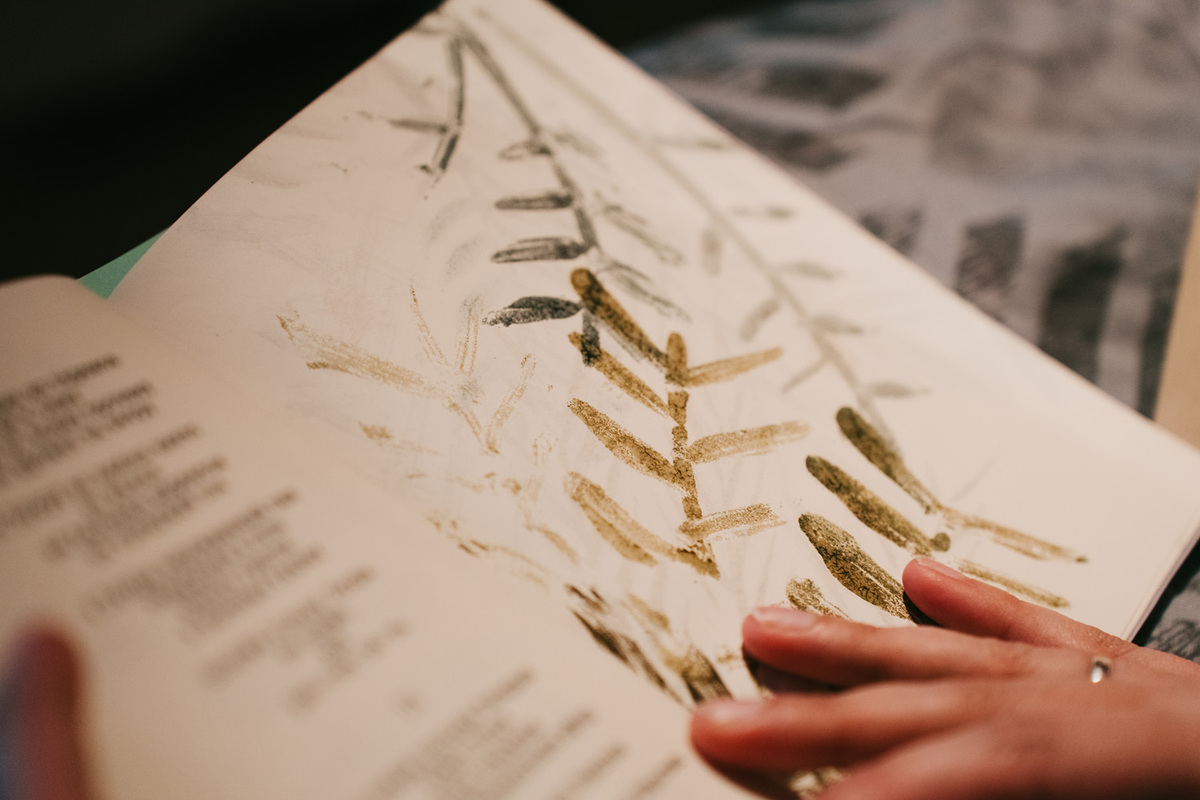
Вы писали эту книгу в разных домах, в разных городах и разных странах, фактически в дороге. Как это было?
Это, кстати, мой любимый факт о Terra Nullius — и, наверное, главный факт об этой книге. Она целиком написана в скитаниях, в чужих домах. Большая часть текста родилась в домах друзей, знакомых, знакомых знакомых, в поездах, самолетах, автобусах. Часть — в Бразилии, часть — в Австрии, в Германии, в Турции, Швеции. Такая безумная география, настоящий альманах странствий. Мне казалось, что я не смогу так работать, что мне нужно устойчивое пространство. Но когда ты оказываешься в ситуации бездомья, когда у тебя нет этой опоры, нет собственного места для письма, ты начинаешь понимать, насколько это вообще привилегия. Про это, конечно, все уже сказала Вирджиния Вулф, но одно дело читать об этом в ее эссе «Своя комната», а другое — узнать это телом. Вспоминала письма Цветаевой в эмиграции, где она жаловалась, что ей не дают писать, что приходится заниматься всем, кроме письма. Я чувствовала эту потерю устойчивости. Ведь раньше у меня был дом, и в доме был кабинет, мое рабочее место. А потом я всего этого лишилась.
Но со временем я научилась создавать себе кабинет в экстремальных условиях. Поняла, что на самом деле мне нужно немногое — ноутбук и музыка. Существует миф, будто писатель должен работать в тишине. Я — никогда. У меня всегда есть музыка. Terra Nullius почти вся написана под старые азербайджанские любовные песни, песни Шовкет Алекперовой, Нармины Мамедовой, альбом The Disorientalists Who Was Essad Bey?, песни турецкой исполнительницы Derya Yıldırım совместно с группой Şimşek и под суфийские зикры. У меня был странный, но очень мой плейлист. Он и стал моим кабинетом. Стоило включить эти зикры, устроиться где угодно — в углу, на диване, на полу, — и если меня хотя бы час никто не трогал, я могла работать. Вот так и писалась Terra Nullius — из чужих домов, из музыки, из странствий.
”
У меня был странный, но очень мой плейлист. Он и стал моим кабинетом.
Где легче всего писалось, а где — тяжелее?
Наверное, комфортнее всего мне работалось в Бразилии. Я была там в рамках фестиваля, и мне выделили место для работы — не просто место, а безумно красивый дом XIX века. Настолько красивый, что иногда забываешь дышать, будто находишься в музее. И тебе говорят: «Работай здесь». Конечно, писать в таком пространстве было невероятно. Исторические дома вообще обладают какой-то собственной энергией: заходишь — и кажется, что стены с тобой разговаривают. А хуже всего, наверное, мне работалось в Германии в контейнерном бараке, где я жила довольно долго. Там все время пропадал интернет, и было невозможно не слышать других людей. Их присутствие постоянно ощущалось — не как в библиотеке, где все заняты своим и не мешают, а совсем иначе. Кто-то слушает поп-музыку, кто-то громко говорит по телефону — и ты просто не можешь сосредоточиться. Я все время пыталась оттуда сбежать, искала любые другие места, где можно работать. В какой-то момент я поняла: слову на самом деле нужна только твоя рука. Работать можно везде, если очень захотеть. Может быть, это и есть дар Terra Nullius — книга меня этому научила.
И все же комфортнее всего мне писалось в домах — особенно у подруг. У одной из них потрясающая квартира, я описываю ее в книге. Это старая квартира женщины, которая когда-то работала в театре. Видимо, она была состоятельная и с большим вкусом: повсюду картины, антикварная мебель. Работать там — особое удовольствие, потому что ты буквально находишься внутри чужого повествования, чувствуешь чужую историю. Мне это нравится гораздо больше, чем стерильные коворкинги. Я не могу работать в них — они все одинаковые, модные, красивые, но мертвые. Там нет жизни, нет связи, никакой энергии. А когда пространство сложное — историческое, насыщенное деталями, с картинами на стенах, — оно само втягивает тебя в историю, даже против воли. И это, пожалуй, самое продуктивное состояние для письма.

Мне показалось, что из всех описанных домов и локаций больше всего тепла и нежности было в описании бакинских улочек. Вы видите Баку как потенциальное место для жизни? И как вы себя ощущаете в этом городе и в отношениях с ним?
Мои отношения с Баку начались совсем недавно. В детстве я часто бывала там — родители привозили повидаться с родственниками, — но это был совсем другой формат. Когда тебя «привозят» на лето или на выходные, ты понимаешь, что скоро уедешь, и настоящих отношений с городом не выстраиваешь. Это немного похоже на туристические поездки: люди не стремятся понять город, им нужны быстрые аффекты, которые можно увезти с собой. Когда я работала над книгой, все было иначе. Я жила в Баку дольше, осознанно, уже как взрослый человек. Сложно сказать, что мои отношения с городом успели сложиться: три с половиной месяца — не тот срок, чтобы построить долговременную связь. Но я поняла одно: старая часть нравится мне гораздо больше, чем новая. Ичери-шехер — моя самая любимая часть Баку. Я чувствую, как история буквально сочится из каждого угла. Ходя по этим улочкам, я постоянно думала о Курбане Саиде, это литературный псевдоним автора культового романа «Али и Нино» (1937), ставшего классикой мировой литературы. Книга рассказывает о любви азербайджанца-мусульманина и грузинки-христианки. Одним из вероятных авторов считается Лев Абрамович Нусимбаум — российско-еврейский писатель, эмигрировавший из Баку после революции и писавший по-немецки. Думала о старом Баку конца XIX — начала XX века — немного ином, чем нынешний, но по-своему живом и захватывающем. Этот город я и описываю в книге: в какой-то момент читатель уже не понимает, в каком именно Баку он находится. С одной стороны — это вполне реальный город, с другой — почти мифический: тот самый, куда приезжали Нобели делать миллионы, где люди зарабатывали на нефти, крали детей, фотографировались в профиль и анфас. Наверное, этот Баку мне особенно дорог.
Не знаю, смогла бы я там жить. Я перестала загадывать: кажется, окончательно поняла, что будущее — вещь непредсказуемая. Можно пытаться на него влиять, но угадать невозможно, особенно сейчас. Поэтому я не знаю, где окажусь через год или два. Но мне бы хотелось вернуться в Баку на более долгий срок и в более спокойном эмоциональном состоянии. В ту поездку я переживала сложный период, и это, конечно, повлияло на мои отношения с городом. Тем не менее я чувствую к нему нежность. Люблю Баку за то, что он хранит моих мертвых. Люблю его за кладбища, где они лежат. Думаю, любое место, где покоятся твои близкие, требует особого почтения. Но если говорить об устойчивых отношениях, то они у меня были, пожалуй, только с Екатеринбургом — городом, где я родилась и выросла. Его я люблю безоговорочно и очень по нему скучаю. Это, наверное, не лучший город мира, но точно один из лучших городов России.
”
Когда я приезжаю в новое место, мне всегда кажется естественным сначала пойти на кладбище — поблагодарить мертвых за саму возможность быть здесь.
В книге вы пишете, что когда приехали в Берлин, то пошли на кладбище. И вообще в каждом городе ходите на кладбище. Почему оно вызывает у вас интерес и что кладбище может рассказать о городе и его уже ушедших жителях?
Кладбище может рассказать о культуре, стране и городе не меньше, чем музей или архив. Это колоссальный источник информации. Когда я впервые оказалась на кладбище в Швеции, меня поразило, насколько оно ухоженно и красиво. Это было Рождество — все вокруг сияло, и могилы выглядели так же аккуратно и любовно оформленными, как дома и окна. В каждом доме — светящиеся звезды, украшения, тепло, и на кладбище то же самое: за могилами ухаживают, к ним приходят, все одинаково, без оградок, ровные ряды. И в этом — многое о культуре: о равенстве, порядке, уважении к памяти.
А потом ты приезжаешь, например, в Екатеринбург — и видишь совершенно другой язык памяти. В «Дуа за неверного» я как раз писала о кладбищах: и старых екатеринбургских, и других. Кладбище — это всегда слепок исторического и политического ландшафта. Просто прогулявшись по нему, можно узнать об истории страны больше, чем из учебника. Например, в старых екатеринбургских некрополях большинство сохранившихся могил принадлежат состоятельным людям. Они могли позволить себе памятник из камня. На кладбище связи между историческим и социальным, культурным и пространственным пластами особенно ощутимы. Даже наличие или отсутствие оградок говорит о культуре. В некоторых странах их просто нет — все общее, общее поле памяти. А у нас — каждое захоронение отделено, как мини-дворик, как частная квартира. Это ведь тоже язык культуры: разделенное и индивидуализированное пространство.
Понимаю, что звучит странно — «люблю кладбища», — но для меня это про уважение. Очень легко забыть о мертвых, а ведь помнить о них, наверное, нужно в первую очередь. Когда я приезжаю в новое место, мне всегда кажется естественным сначала пойти на кладбище — поблагодарить мертвых за саму возможность быть здесь. Интересно и то, где кладбища расположены. В некоторых странах они находятся прямо в центре города — это другой подход к памяти, интегрированный, спокойный. В России чаще наоборот: кладбища выносят за город, будто прячут. В этом есть страх — желание дистанцироваться от смерти, не видеть ее, не касаться. Как будто если не приближаться, она не приблизится к тебе. Но это иллюзия. Смерть касается всех, и в этом равенство. И, наверное, чем больше мы изолируем себя от пространств смерти, тем сильнее теряем практику памяти.
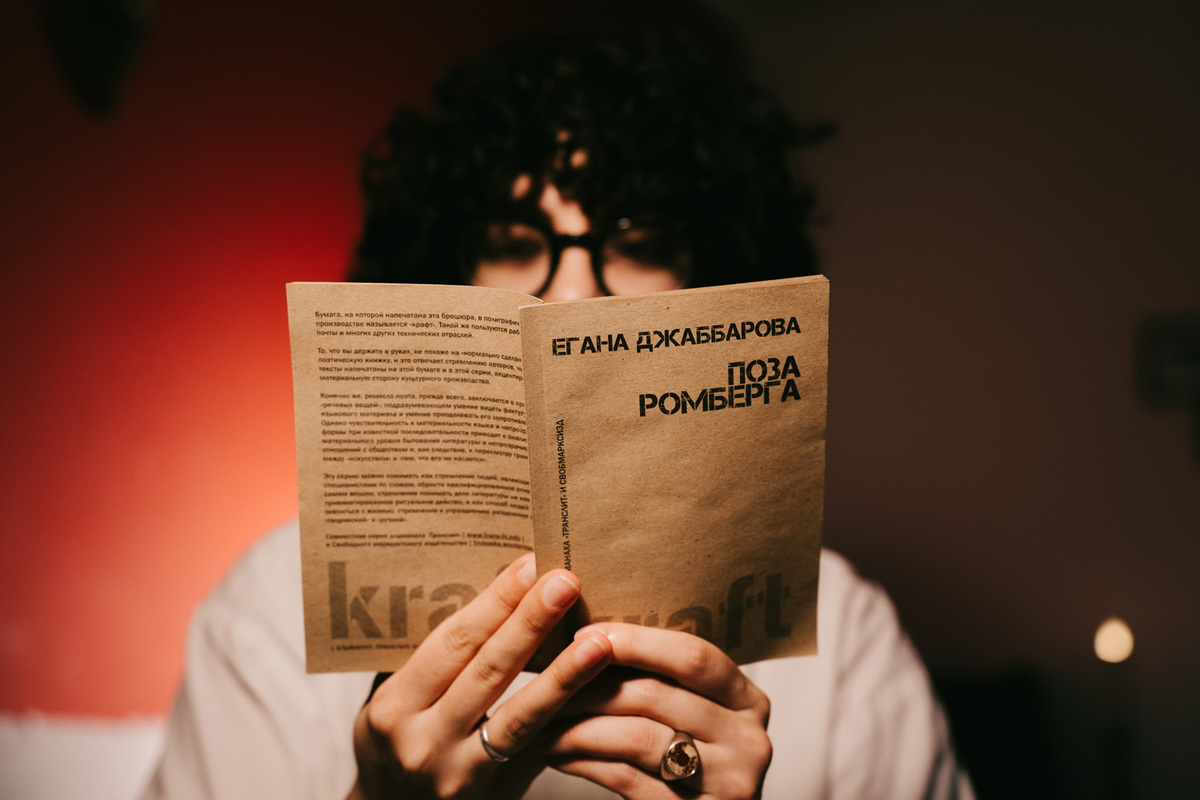
Terra Nullius — это автофикшн, но в книге появляется фантазийный элемент. Это вирус в виде тумана-дыма, который лишает людей эмпатии и делает жестокими. Можно ли теперь считать это автофикшном?
Для меня это третья книга в цикле, и она оказалась самой волнительной. Потому что в ней автофикшн перестает быть автофикшном. Он буквально переламывается: появляется фантазийный элемент, сначала как будто незначительно, а потом все больше и больше — и мы постепенно отдаляемся от «я-истории». Я согласна с исследовательницей Ларисой Муравьевой, которая сказала, что этот роман сплетает в себе все предыдущие. В моей логике «Руки женщин моей семьи были не для письма», «Дуа за неверного» и Terra Nullius должны читаться вместе. Конечно, можно прочитать только одну из них и все понять, но если читать их как единый нарратив — ощущение будет совсем другим. Terra Nullius — крайняя книга, она вмещает в себя всех героев, которые появлялись в первых двух романах. Там они были второстепенными, мелькали вскользь, а здесь получают собственное пространство.
Автофикциональный мир с фантазийным элементом как будто раскалывается и одновременно расширяется: он становится более глобальным, превращается в пространство сосуществования — словесного, литературного, человеческого. Это был мой сознательный жест. Я хотела немного «разоружить» типичный автофикшн, подломить его. Сделать так, чтобы это была не просто история одного частного лица, а история многоголосия — семьи, рода, всех, кто в нем был. Пространство, где есть место каждому голосу: живым, мертвым, читающим. В этом смысле Terra Nullius для меня — шаг за пределы автофикшна, попытка создать общее пространство со-бытия.
Эта книга посвящена в том числе и Каре, это ваша кошка. Почему ей?
Большую часть времени, пока я писала книгу, моей кошки не было рядом. Она вернулась как раз тогда, когда я закончила текст. Может быть, мне действительно нужно было его завершить, чтобы она ко мне вернулась. История с ней вообще забавная. Я никогда не любила кошек. Всю жизнь хотела собаку. Кошка появилась совершенно случайно. И именно она научила меня этой любви — любви к кошкам. С тех пор я уже не могу представить свою жизнь без Кары. Для меня она — синоним дома. Поэтому мне было важно посвятить ей текст. Потому что книга о доме и бездомье просто невозможна без Карушки. И вообще, мне кажется, важно помнить о любви. Это великое чувство, потому что оно не ограничивается человеком. Оно может быть направлено на кого угодно — на кошку, собаку, птичку. В этом, наверное, и есть его величие: любовь не зависит от адресата.

История вашей семьи — это история вынужденных перемещений, переездов и потерянных домов. Дом детства вашего отца разрушен войной в Нагорном Карабахе. Никто из членов вашей семьи не может попасть в дом детства вашей мамы в Грузии. А вы сами оказались вдали от родительского дома и столкнулись с опытом проживания в социальном лагере. И сегодня в нашей беседе вы несколько раз употребили слово «бездомье». Что это за ощущение и может ли оно передаваться по наследству?
Это был один из ключевых вопросов текста: можно ли наследовать бездомность? Конечно, речь не о буквальном отсутствии крыши над головой. Есть физическая бездомность, когда человек живет на улице, но в Terra Nullius я говорю о другом — о бездомности в нескольких значениях одновременно. О невозможности найти себе место, о чувстве постоянного вытеснения, когда тебя словно выбрасывает из пространства, где ты только начинаешь укореняться. Я до конца не смогла ответить, наследуется ли это. Может быть, я действительно унаследовала этот трек. А может, все дело в обстоятельствах. В контексте Terra Nullius бездомность — это не столько про пространство, сколько про состояние, когда место тебя выталкивает. Когда оно перестает тебя принимать, ликвидирует твое присутствие. И тогда человек теряет чувство безопасности. А безопасность — это ведь базовая психологическая вещь. Когда ты ее лишаешься, вернуть ее потом бывает невероятно трудно. Есть же этот старый мем: «меня легко потерять и трудно найти» — он на самом деле про безопасность. Бездомность — это про жизнь в расщелине пограничного, когда ты нигде не свой. Пространство тебя не принимает, вытесняет, и ты все время вынужден завоевывать себе право на существование. Это мучительное состояние, и, думаю, многим оно знакомо, не только тем, кто буквально живет на улице.
Для меня и личный опыт, и сам роман стали способом осознать, что дом и место — это огромная привилегия. Иметь пространство, где все твое, где вещи лежат по местам, где ты не соседствуешь с людьми, которых не выбирал, — это не норма, это роскошь. И в этом смысле — быть не изгнанным, не вытесненным из пространства — тоже привилегия. Работая над Terra Nullius, я пересмотрела само понятие привилегии. Поняла, что многие вещи, которые кажутся базовыми, на самом деле не являются таковыми. Например, здоровое тело — это не база, а привилегия. Мы вспоминаем об этом, только когда заболеваем. То же самое касается дома, близких, безопасности, еды — всех этих вещей, которые мы склонны воспринимать как должное, хотя на самом деле они — хрупкие дары.
”
Бездомность — это про жизнь в расщелине пограничного, когда ты нигде не свой.
В конце книги главная героиня все-таки находит свою Terra Nullius, свою ничейную землю. Как вам кажется, вы сможете ее найти?
Для меня это по-прежнему открытый вопрос: что считать Terra Nullius? Существует ли ничейная земля в значении общая? И может ли сама литература быть таким местом? Мне хочется верить, что слово — уже убежище. Что литература может стать пространством, где возможно сосуществование, со-бытие, эмпатия и сочувствие. В жизни это гораздо труднее, чем на бумаге, но все же... Я не знаю, как выглядит мой идеальный дом, но возможность писать, создавать словесное пространство для других — это то, что придает смысл. Не личный, а вообще — смысл жизни, ощущение будущего. Мне важно просто иметь слова и выпускать их дальше, чтобы они преобразовывались, становились убежищем, длинным обеденным столом, за которым могут собраться все. Это было бы прекрасно.
Мне кажется, нам всем стоит учиться симпатии, любви, сопереживанию и говорению — вместо всего остального. Потому что любить во сто крат сложнее, чем ненавидеть. И грустно, что сегодня многим кажется наоборот. А я по-прежнему уверена: главное искусство, которое вообще существует в мире, — это искусство любви.




