Манера жить не вникая
ФОТО:
GETTY IMAGES, ТАСС, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
В издательстве «Альпина. Проза» вышла «Средняя продолжительность жизни» — дебютный роман Максима Семеляка. Семеляк — музыкальный критик, бывший главный редактор журналов The Prime Russian Magazine и Men’s Health, играл важную роль в формировании интеллектуальной среды российских нулевых. «Средняя продолжительность жизни» — именно о них. Специально для The Blueprint журналист Иван Матушкин рассказал, как алкоголь, цитаты из Кафки и «мюнхенская речь» формируют картину недавнего прошлого.

Вы помните нулевые? Начиная с «Бригады» и заканчивая «Лихими», российское искусство уже двадцать с лишним лет занимается девяностыми. Свобода, разруха, беспредел, невероятные возможности — первую постсоветскую декаду давно разобрали на смысловые кирпичики руками Пелевина, Прилепина и даже Пепперштейна (а когда еще можно было смотреть на мир так, чтобы написать «Мифогенную любовь каст»?). А вот про нулевые почти не говорят. Как будто не было их и сразу из дефолтного 98-го мы переместились в новый застой. Ну, максимум после второй чеченской.
При этом те, кто нулевые помнят, склонны по этому не отраженному в искусстве времени ностальгировать. Что-то в них было, помимо минаевских «тёлок» и «белых дорог» группы Centr. Что-то эфемерное, что скорее ощущалось, чем осмыслялось, а потому навсегда зависло в отблесках диско-шаров и вонг-карваевском рапиде.
Максим Семеляк — важная часть интеллектуальной жизни того периода — попробовал перенести вот это ощущение вчерашнего праздника, совмещенного с завтрашним похмельем, в роман. И в итоге собрал настоящий памятник нулевым, который, как и эту эпоху, слишком сложно ухватить и невозможно запомнить.
«Бригада», 2002
И в итоге собрал настоящий памятник нулевым, который, как и эту эпоху, слишком сложно ухватить и невозможно запомнить.
Сюжет «Средней продолжительности жизни» довольно прост: его нет. В начале романа альтер эго автора откапывает на кладбище амфору с прахом матери и едет в недальний санаторий, над прилежащим к которому озеру мать когда-то завещала себя развеять. Больше не происходит более-менее ничего. Максим все время с кем-то знакомится, предсказуемо много пьет, попутно теряет прах, но даже это не заставляет его покинуть подмосковный Твин Пикс с вареными яйцами на завтрак.
Весь роман состоит исключительно из разговоров Максима с постояльцами санатория и самим собой. Кавалькада собеседников ему выпадает хоть куда. Вот Анита, которую герой быстро доводит до оргазма, но никак не может довести до постели: богатая наследница с фантазией пишет порнографические рассказы, водит за собой двух полулюбовников, забывает все разговоры прямо в процессе. Вот лодочник, нестареющий санаторный Харон, который учит Максима каким-то совершенно лизергиновым гимнастикам с православной отдушиной. Вот отставной поп, который разговаривает смесью железнодорожных объявлений и пустопорожних обвинений. Вот, наконец, С.В. — сосед по завтракам, политолог-теоретик пелевинско-павловского духа. Изрядная часть книги посвящена его прогнозам на будущее России после «мюнхенской речи» (это заодно маркер времени действия романа).
Все они, конечно, нужны исключительно для воплощения эпохи. Анита — новый мир, куда 30-летнего Максима не впускают во всех смыслах. Лодочник со своими мистическими единоборствами, С.В. с беспробудным политическим гоном, крепко пьющий батюшка — если бы кто-то делал RPG про Россию нулевых, тут можно было бы собрать готовую группу персонажей.

Но сильнее содержания дух нулевых передает форма романа. Во-первых, бесконечное блуждание героя в экзистенциальном нигде, разлитое по произведениям того времени, от «Чисел» до «Дикого поля». Во-вторых, сюрреальность, тогда понимаемая скорее через Линча и Ходоровски, чем через Арто. В-третьих и, может быть, в главных, сам язык произведения. «Средняя продолжительность жизни» написана совершенно по-журналистски, но это журналистское письмо времен сапрыкинской «Афиши», в которой Семеляк и работал.
Автор не оставляет ни одного предложения без тропа. Сравнения, метафоры, олицетворения толпятся в романе, как некогда очередь в «Дягилев». Причем все эти приемы остаются сугубо языковыми — метафоры Семеляка не развернешь в реальности, не визуализируешь, их можно только написать и прочитать. Например, Анита, по мнению главного героя, ведет себя «капризно, но основательно, как дочь индейского вождя». Воду из уличных рукомойников добывают «апперкотами», а теснота санаторной комнаты определяется тем, что в ней было бы уже не уместиться, «случись у посетителя эрекция». Иногда все эти словесные игры уходят совсем в сторону «Камеди клаба», превращая вуди-алленовский «Энни Холл» в пьер-вудмановский any hole.
Вдобавок метафоры и эпитеты здесь нужны не для прояснения каких-либо характеристик. Они ничего, в сущности, и не проясняют, оставаясь жить сами по себе, признаками авторского острословия. Как халат, который держится на героине «как будто заезжий полковник (а то и два) в последний момент набросил на нее свою шинель». При этом создаваемое этими словесными играми настроение распознается безошибочно.
«дикое поле», 2008
Лодочник со своими мистическими единоборствами, С.В. с беспробудным политическим гоном, крепко пьющий батюшка — если бы кто-то делал RPG про Россию нулевых, тут можно было бы собрать готовую группу персонажей.

Так писали в той же «Афише», передавая впечатления от музыкальных альбомов кулинарными метафорами и воспоминаниями о прочитанном Делёзе. Еще один прием тех времен — непрекращающаяся и беспричинная цитатность. Семеляк не просто выводит устами героя пелевинские рулады — он поминает в тексте самого ПВО. Абсурдность санаторной жизни подчеркивается сравнением милиционеров с помощниками землемера из «Замка» Кафки. А бесконечный поток сознания Максима, естественно, наводит на мысли о Джойсе: сановитый Бык Маллиган из «Улисса» отзывается «сановитым псом» в поплывшей против сценария версии «Крестного отца», которую герой смотрит по Первому каналу после неизбежного для нулевых белого порошка для ноздрей.
Наконец, завершает эту «темную триаду» языка нулевых нарочитая афористичность:
«В том и преимущество жизни на сравнительно пустом месте — меньше поводов для перемен».
«Чем меньше войны, тем секретнее ее объекты».
И так далее. Афоризмы, или хотя бы их попытки, встречаются если не на каждой странице, то точно в каждой главе. Вообще разговаривают здесь длинными монологами, будто не говорят, а пишут в ЖЖ, и каждый говорящий непременно стремится быть самым умным человеком в комнате, как в фильмах Аарона Соркина.

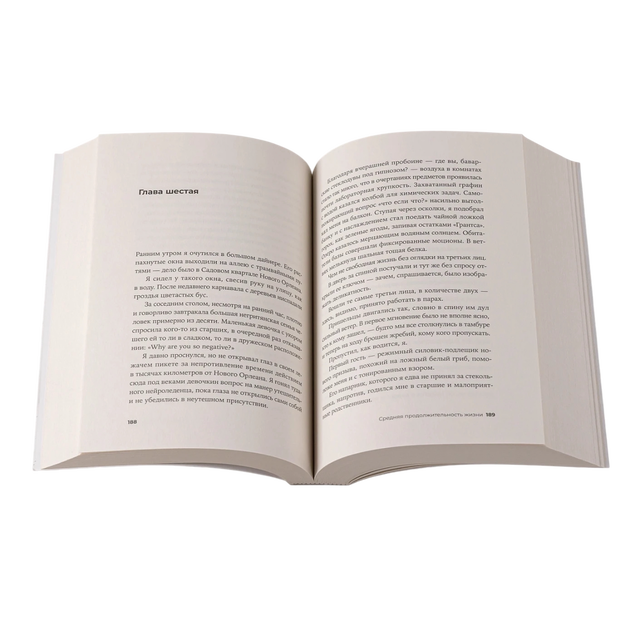
В нулевые так и было: нужно было делать «русский New Yorker», «русский Бродвей», «русский Гайд-парк».
Не раз поминающий в произведении постструктуралистов автор, естественно, и язык делает поводом для самоанализа. Тяга автора-героя к постоянным сравнениям не ускользает от глаз Аниты: «Что ты как перед зеркалом — все время вспоминаешь и сравниваешь?» — спрашивает она главного героя примерно в середине книги. И это, в общем, тот самый вопрос, который живущие сейчас могли бы задать жившим тогда.
В нулевые так и было: нужно было делать «русский New Yorker», «русский Бродвей», «русский Гайд-парк». Все описывалось через вымышленные гибриды — новый альбом артиста Х непременно должен был звучать как смесь артиста А с артистом Б, присыпанная чем-то запрещенным. Или зачатая вне брака. Тут уж на что автору фантазии хватит. И Максим-персонаж тут ровно такой, как эти альбомы — пытается быть смесью Ганса Касторпа с Хантером Томпсоном, если бы те родились в Орехово-Борисово.
Анита неспроста предъявляет претензии к этим бесконечным сравнениям: где-то в них пролегает разлом между постмодернизмом нулевых и новой искренностью десятых, между Бретом Истоном Эллисом и Салли Руни. Сама Анита постоянно манифестирует себя, говорит о том, какая она, как поступило бы большинство ее сверстниц в 2024-м. Максим, напротив, проявляется скорее ассоциациями, через прослушанное и увиденное, трансцендентное, но не имманентное. Разница поколений тут передает разницу эпох: бесконечные «Игры в бисер» (еще одна неизбежная ассоциация) теперь заменили нарочитой откровенностью, Максиму-персонажу недоступной. Когда не хватает сравнений, он прибегает к другой верной спутнице эпохи: иронии.

«Ты так и будешь на шутке всю дорогу?» — продолжает недовольство Анита. Да, будет. Сведение внутренней драмы к внешней комедии — жанр, изобретенный задолго до стендаперов. Хотя в нулевые его выражение требовало скорее открытой бутылки, чем открытого микрофона.
Но главное: это зашучивание любой темы позволяет герою, как он сам говорит, сохранять «манеру жить не вникая», которая его «еще никогда не подводила». Складывая себя из культурных и контркультурных кубиков, он превращает свое «я» во вполне постмодернистский конструкт.
Постмодернизм, конечно, искусство некрофилическое: признание в неестественной любви к прошлому, выраженное самым естественным путем. И тему прошлого «Средняя продолжительность жизни» неоднократно заявляет, но так ни разу не прорабатывает. Под конец романа прожженная библиотекарша пытается вывести Максима из вечной подростковой обиды на отца в самостоятельную жизнь, но, как признается сам герой, «очистительный ритуал не принес облегчения». Как итог: герой возвращается домой, к своим виниловым пластинкам и магазину «Элитный алкоголь — 24 часа в сутки». Туда же, откуда он в начале романа и уехал в санаторий. Как нулевые в российской жизни, события романа оказались для героя лишь странной, но приятной паузой, а практически «мюнхенская» речь библиотекарши, которая должна была все перевернуть в финале, кажется, задела его только по касательной. Манера жить не вникая оправдала себя и тут. Ведь, как сказал Семеляк, «есть только две оси координат — непредсказуемость и конечность, и чем дольше ты проведешь в точке пересадки, тем разумнее».
Как нулевые в российской жизни, события романа оказались для героя лишь странной, но приятной паузой.












