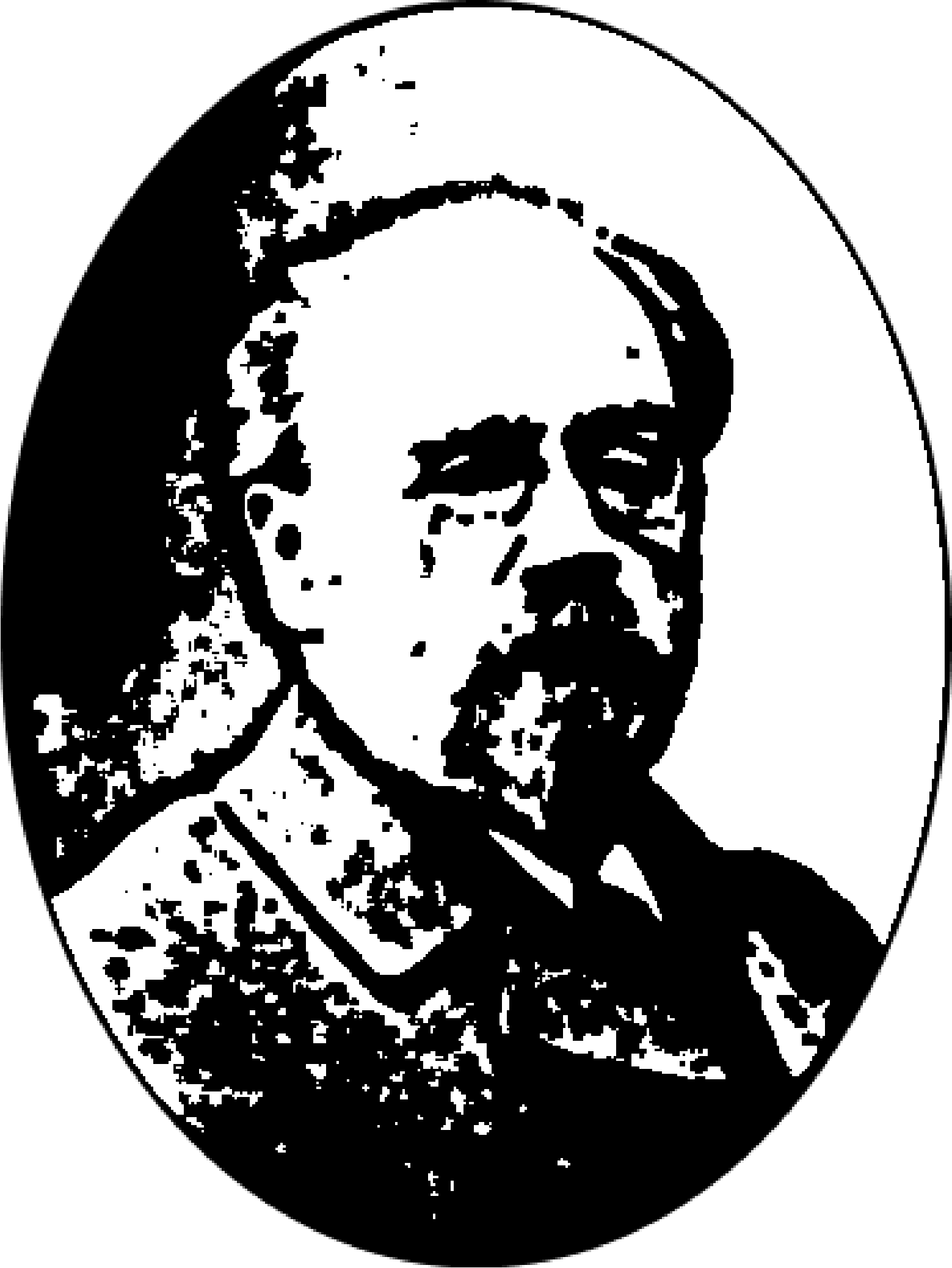А судьи кто?
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
В США продолжается процесс по делу о нападении на писателя Салмана Рушди — 12 августа 2022 года во время лекции о писательской безопасности на него было совершено покушение; Рушди чуть не потерял глаз и написал об этом книгу «Нож», вышедшую в 2024-м. Редактор отдела культуры Иван Чекалов вместе с поэтом Михаилом Постниковым вспомнили другие случаи, когда писатели выступали в суде — в качестве обвиняемых, защитников, прокуроров и даже судей.
Писатель-потерпевший — Салман Рушди
12 февраля 2025 года Салман Рушди выступил в суде против напавшего на него три года назад Хади Матара. В 1989-м иранский духовный лидер, аятолла Хомейни издал фетву, в которой призвал расправиться с романистом и со всеми причастными к изданию его книги «Сатанинские стихи». Салман Рушди живет под государственной защитой Великобритании, несмотря на заявления новых иранских властей о том, что они не поддерживают фетву (но и не отменяют ее). Через десять лет, в 2000-м, писатель переезжает в Нью-Йорк. Нападение произошло спустя 33 года после фетвы. На суде писатель рассказал, как произошло покушение и что он чувствовал в тот момент. Рассказ Рушди был очень подробен и изобиловал деталями — это неудивительно, ведь писатель практически дословно цитировал свои мемуары «Нож», вышедшие за несколько месяцев до начала судебного разбирательства. Рушди не стал копировать свою книгу только в части вымышленного разговора с убийцей — а жаль, это была самая эффектная глава мемуаров.
«Я осознал, что этот человек мчится на меня с правой стороны. Увидел кого-то с темными волосами и в темной одежде... Меня поразили его глаза, они показались мне темными и свирепыми. Он очень сильно ударил меня в область челюсти и шеи. Сначала я подумал, что он ударил меня кулаком, но вскоре увидел, что на одежду вылилось большое количество крови. Он продолжал меня бить. Бить и резать. Все произошло очень быстро. Меня несколько раз ударили ножом, и больнее всего в глаз. <...> Я был очень сильно ранен. Не мог больше стоять. Я упал. <...> Я осознал, что лежу в большой луже крови. Мое ощущение времени было довольно мутным, у меня болели глаз и рука, и я совершенно отчетливо почувствовал, что умираю. Я смутно понимал, что происходит, пока вертолет не приземлился, а что случилось потом, я совершенно не помню».
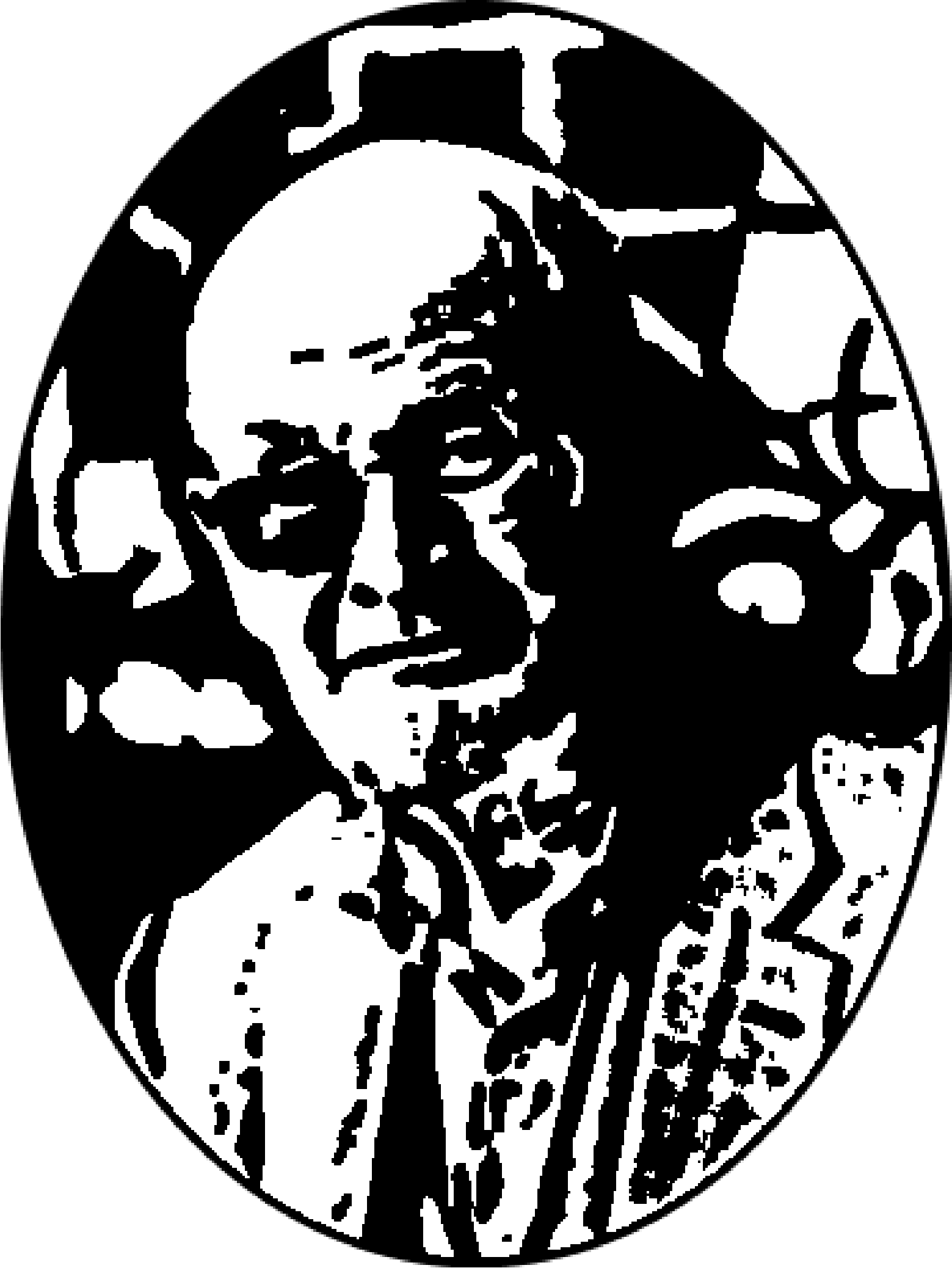
Писатель-адвокат — Лев Толстой
Льва Николаевича Толстого с судебной системой России связывало несколько историй. Он работал мировым судьей, однажды сам попал под обвинение в смерти пастуха, следил за громкими процессами и искал в них сюжеты для своих книг (самый известный пример — роман «Воскресение»). В 1860-е в России была принята судебная реформа, которая упорядочила законы и позволила сделать суды более открытыми и прозрачными. К 1866 году относится, наверное, один из самых громких судебных эпизодов Толстого (увековеченный в фильме Авдотьи Смирновой «История одного назначения»). Писатель вызвался защищать рядового Василия Шабунина, который был приговорен к смертной казни за то, что ударил командира по лицу. Защитная речь Толстого строилась на доказательстве невменяемости Шабунина, из-за которой он не подпадал под действие военно-уголовного законодательства. Речь не произвела должного эффекта, и Шабунина было решено расстрелять. Толстой пытался написать ходатайство о помиловании на имя императора, но забыл указать полк рядового. Шабунина казнили. Уже позже писатель, вспоминая свой провал, сетовал, что в речи ссылался на законы, а не выступал против смертной казни в принципе: «Да, стыдно мне теперь читать эту жалкую, глупую защиту. Ведь доказывать то, что жизнь каждого человека священна, что не может быть права одного человека лишить жизни другого, — это знают все люди».
«Прошедшее Шибунина, его вид и разговор доказывают в нем высшую степень тупоумия, еще усиленного постоянным употреблением вина; показание же его, как бы умышленно увеличивающее его вину, а главное, самое преступление, совершенное при свидетелях и в сопровождении бессмысленности, доказывает, что в последнее время к общему состоянию идиотизма присоединилось еще состояние душевного расстройства, которое, ежели не подлежит докторскому освидетельствованию, как безумие, тем не менее не может не быть принято, как обстоятельство, уменьшающее виновность».
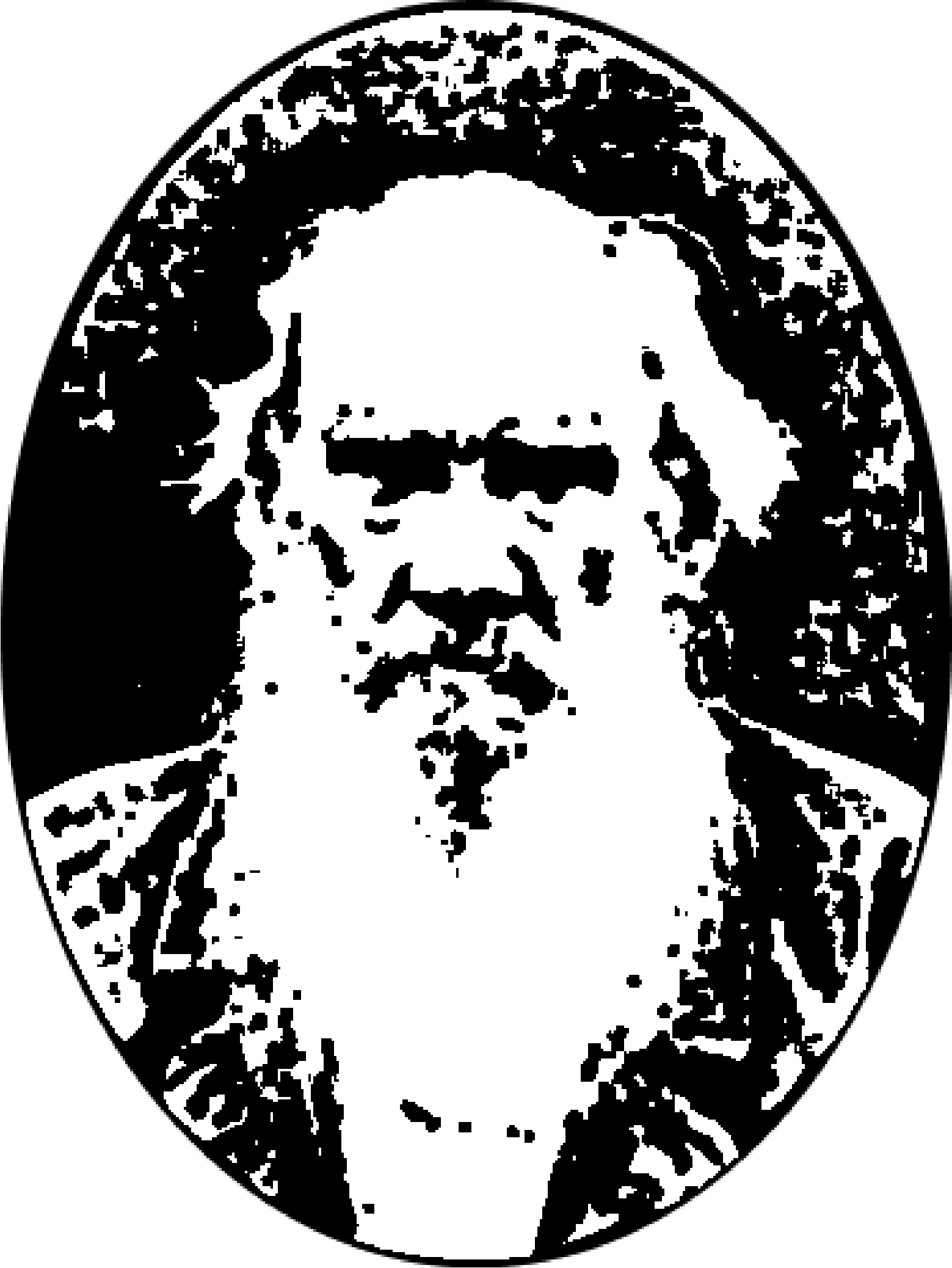
Писатель-обвиняемый — Светлана Петрийчук
К сожалению, писатели намного чаще оказываются в судах в роли обвиняемых. Иногда не без причины: Луи-Фердинан Селин и правда был коллаборантом и сотрудничал с пронацистским правительством Виши, а Уильям Берроуз действительно (хоть и случайно) убил свою жену. Но часто писателей обвиняют за их творчество, которое по каким-то причинам не вписывается в государственные представления о том, что и как нужно писать. Суд за аморализм в романе «Госпожа Бовари» над Гюставом Флобером и в «Цветах зла» над Шарлем Бодлером, процессы над Бродским, Синявским и Даниэлем, даже случай упомянутого выше Салмана Рушди можно считать обвинением, ведь аятолла Хомейни вынес ему смертный приговор. Самый известный суд над писателями в современной России — это дело драматурга Светланы Петрийчук, которую вместе с режиссеркой Евгенией Беркович осудили на шесть лет колонии за спектакль «Финист Ясный Сокол». Обвинение, основанное на псевдонаучной «деструктулогической» экспертизе, посчитало, что пьеса и постановка оправдывают терроризм. 11 февраля 2025 года Светлану Петрийчук этапировали в колонию.
«Весь этот год я чувствую себя жертвой величайшего абсурда, который когда-либо встречала и в жизни, и в искусстве. А еще я чувствую себя оскорбленной. Ведь 6 лет назад, когда я писала пьесу, я была уверена, что делаю нечто максимально одобряемое органами правопорядка — помогаю предотвратить преступление доступными мне как писателю средствами. Я пыталась исследовать мотивы правонарушения — точно так же, как делали десятки других писателей до меня. <...> Неосведомленными о том, что в тексте есть оправдание терроризма, по мнению обвинения, оказались за 6 лет пара сотен профессионалов в области театра, Минкульт, СТД и ФСИН, тысячи зрителей, многие сотни людей, которые за 14 месяцев написали нам письма в СИЗО. Ну да, и пара ученых-лингвистов, один из которых пишет книги по методикам лингвистической судебной экспертизы. А обвинение знает лучше».

Писатель-судья — Афанасий Фет
«В воспоминаниях моих я подхожу к событию, которое по справедливости может быть названо эпохой, отделяющей предыдущий период жизни и в нравственном, и в материальном отношении от последующего» — так начинает Афанасий Фет в своих мемуарах раздел, посвященный работе мировым судьей Мценского уезда Орловской губернии. Мировой судья — это судья низшей инстанции, рассматривавший в основном имущественные склоки крестьян и — изредка — мелких дворян. Время судейства Фета (1867-1878) вышло на пресловутую судебную реформу Александра II, призванную упростить систему делопроизводства и вывести крестьянские споры из-под ведения владевших ими ранее помещиков. Фет утверждал, что вступил в должность из идейных соображений: «...ведь и я сам, не будучи радикалом, был самым наивнейшим либералом до мозга костей», однако известная расчетливость поэта позволяет предположить, что на него повлияло и страстное желание вернуть свою родовую фамилию — Шеншин — и дворянство, чего он добьется за несколько лет до выхода в отставку. Тем не менее в своем, по всей видимости, вполне искреннем желании защищать крестьян он занимался делом необходимым и весьма прогрессивным — даже когда речь заходила о краже бревен или о суде над дядей, укравшим лошадь у племянника.
«...Из усадьбы соседки нашей О-вой явился старый кучер с просьбою, чтобы я развел его дочь с ее молодым мужем, наносящим ей истязания. <...> В назначенный час явилась передо мною в прекрасном шерстяном салопе с капюшоном, обшитым шелковою бахромою, очень молодая брюнетка, весьма красивая. Обвинителем со стороны несовершеннолетней дочери явился отец, и на вопрос, в чем состояли истязания? — показал, что они с женою “воспитывали дочь, ничего до нее ‘не допущая’, а муж заставляет ее доить корову и снимать с него сапоги и даже запрещает ей ходить к родителям”...
— ...не желаешь ли ты помириться с мужем? — спросил я красавицу.
— Меня хоть в Сибирь, а я с ним жить не желаю, — был ответ.
— А ты желаешь жить с женою? — спросил я столяра.
— Очень желаю, — отвечал парень.
<...>
— Муж тебе завел корову, а ты это называешь мученьем. Если тебя отец ни до чего не допускал, тем хуже; а ты должна слушаться мужа, а не отца...
— От него-то вся и беда! — воскликнул парень.
— А ты зачем его к себе пускаешь? Гони его вон!
— Как! меня-то?
— Известно, тебя-то!
— Как же это так?
— Кулаком по шее!
<...>
Последовала мировая».
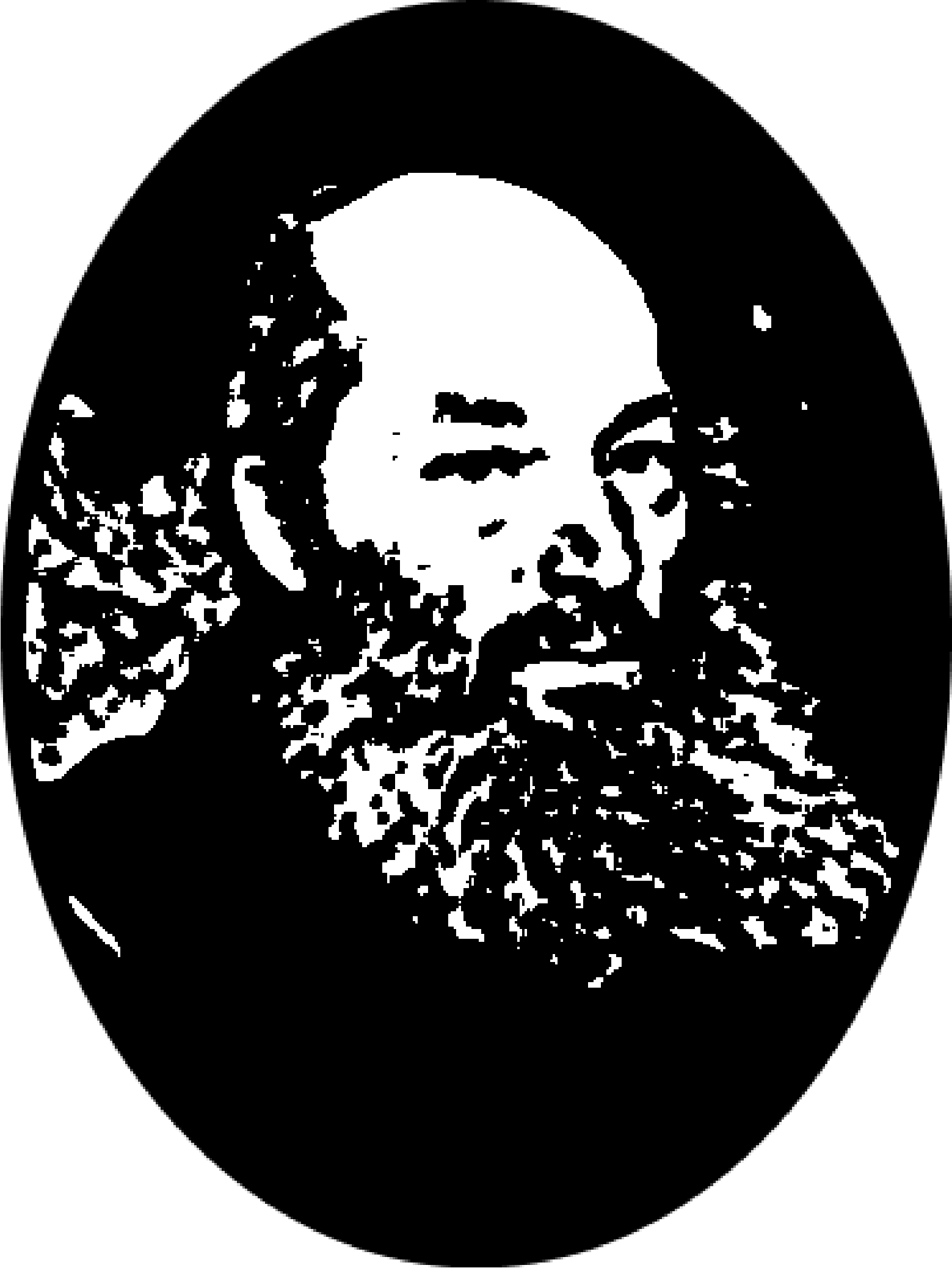
Писатель-прокурор — Марк Тулий Цицерон
Синоним ораторского искусства и даже конкретнее — судебного красноречия Марк Тулий Цицерон известен многими своими выступлениями, громившими политиков и защищавшими поэтов; филиппиками и, конечно же, «Катилинариями» — четырьмя речами, произнесенными им в римском сенате против заговорщика Луция Сергия Катилины. Обвинительные речи (в том числе «Против Катилины») Цицерон оглашал в сенате или на форуме, предпочитая выступать во внесудебном порядке, de jure оставаясь адвокатом. Тем не менее следующую фразу он произнесет именно в суде: «Если кто-либо из вас, судьи, <...> удивится тому, что я, в продолжение стольких лет своей судебной практики выступавший много раз защитником, <...> являюсь теперь в роли обвинителя, то я прошу его ознакомиться с причинами и побуждениями, которые руководили мною». Причины были весомыми — жители Сицилии, где Цицерон когда-то служил квестором (чиновником, ведавшим уголовной юрисдикцией), буквально умоляли Цицерона выступить с обвинением против пропретора (наместника) Гая Верреса. Тот воровал из казны, «оскорблял религию» и творил всяческий беспредел по отношению к обитателям провинции. Прежде чем взяться за дело, оратору пришлось выступить против конкурента — Квинта Цецилия, тоже пожелавшего быть прокурором по этому делу (Цицерон подозревал в нем ставленника Верреса). Победа осталась за Цицероном. Не желая связываться со столичной знаменитостью, Гай Веррес заблаговременно покинул Рим — защита отказалась от своего подопечного, а суду осталось лишь подтвердить добровольное изгнание пропретора и заочно взыскать с него в пользу сицилийцев 40 000 000 сестерциев.
«...уже установилось гибельное для государства, а для вас опасное мнение, которое не только в Риме, но и среди чужеземных народов передается из уст в уста, — будто при нынешних судах ни один человек, располагающий деньгами, как бы виновен он ни был, осужден быть не может. И вот, в годину испытаний для вашего сословия и для ваших судов, когда подготовлены люди, которые речами на сходках и внесением законов будут стараться разжечь эту ненависть к сенату, перед судом предстал Гай Веррес, человек, за свой образ жизни и поступки общественным мнением уже осужденный, но ввиду своего богатства, по его собственным расчетам и утверждениям, оправданный. <...> Я к суду привлек такого человека, чтобы вы вынесенным ему приговором могли восстановить утраченное уважение к судам, вернуть себе расположение римского народа, удовлетворить требования чужеземных народов. Это — расхититель казны, угнетатель Азии и Памфилии, грабитель под видом городского претора, бич и губитель провинции Сицилии».

Писатель-все-везде-и-сразу — Эмиль Золя
В 1895 году гражданина Франции, капитана Альфреда Дрейфуса обвинили в шпионаже в пользу Германии и приговорили к пожизненной ссылке. Судебный процесс и последующее дополнительное расследование надолго раскололи французское общество (скажем, в эпопее Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» разговоры о деле Дрейфуса играют важнейшую роль в повествовании). Начальник французского разведывательного бюро полковник Жорж Пикар доказал, что шпионом на самом деле был майор Шарль Эстерхази, а обвинение против Дрейфуса подпитывается общественным антисемитизмом. Армия протестует — Пикара сначала заставляют уйти из армии, а затем и вовсе арестовывают по обвинению в нелегальной передаче документов. И вот здесь-то на авансцене оказывается романист Эмиль Золя: в 1898 году было опубликовано открытое письмо «Я обвиняю», где он одновременно выступил и обвинителем (высших военных и государственных деятелей), и защитником (собственно, Дрейфуса), и судьей («...я отлично понимаю, что мне грозит <...> судебное преследование за распространение лжи и клеветы. Я сознательно отдаю себя в руки правосудия»). Все это — на страницах ежедневной либеральной газеты L’Aurore. После публикации письма на Золя, как он и ожидал, был подан иск о клевете. Он вынужден скрываться в Англии — но писательское воззвание превратилось в общественный манифест, и уже в 1899 году Дрейфус, а затем и Пикар были помилованы. Золя вернулся на родину триумфатором.
«Я обвиняю подполковника Дюпати де Клама в том, что он совершил тяжкий проступок, допустив — хочется верить, по неведению — судебную ошибку <...>
Я обвиняю генерала Мерсье в том, что он явился, в лучшем случае по слабости рассудка, пособником одного из величайших беззаконий нашего столетия.
Я обвиняю генерала Бийо в том, что он, располагая бесспорными доказательствами невиновности Дрейфуса, сокрыл их и нанес тем самым злостный ущерб обществу и правосудию.
<...>
Я обвиняю Военное ведомство в том, что оно вело на страницах газет, особенно таких, как “Эклер” и “Эко де Пари”, грязную кампанию, направленную на то, чтобы ввести в заблуждение общественность <...>
Я обвиняю, наконец, военный суд первого созыва в том, что он нарушил закон, осудив обвиняемого на основании утаенной улики, и военный суд второго созыва в том, что он по приказу сверху покрыл оное беззаконие и умышленно оправдал заведомо виновного человека».