Как я стала:
Анна Кегелес
ФОТО:
GETTY IMAGES, Марго Овчаренко, Алексей Кудрик, Robert Meares, Юлия Левит, ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Если бы рубрики «Как я стала» не существовало, то ради сегодняшней героини ее стоило бы придумать. Анна Кегелес начинала дизайнером в глянце, была арт-директором Forbes Style, Robb Report и Harper’s Bazaar, а потом переехала в Нью-Йорк и сменила профессию. Последние два года Кегелес занимается арт-терапией с особо опасными заключенными тюрьмы Райкерс. Про работу в одной из самых больших тюрем в мире и все, что к этому привело, она рассказала Полине Садовниковой.
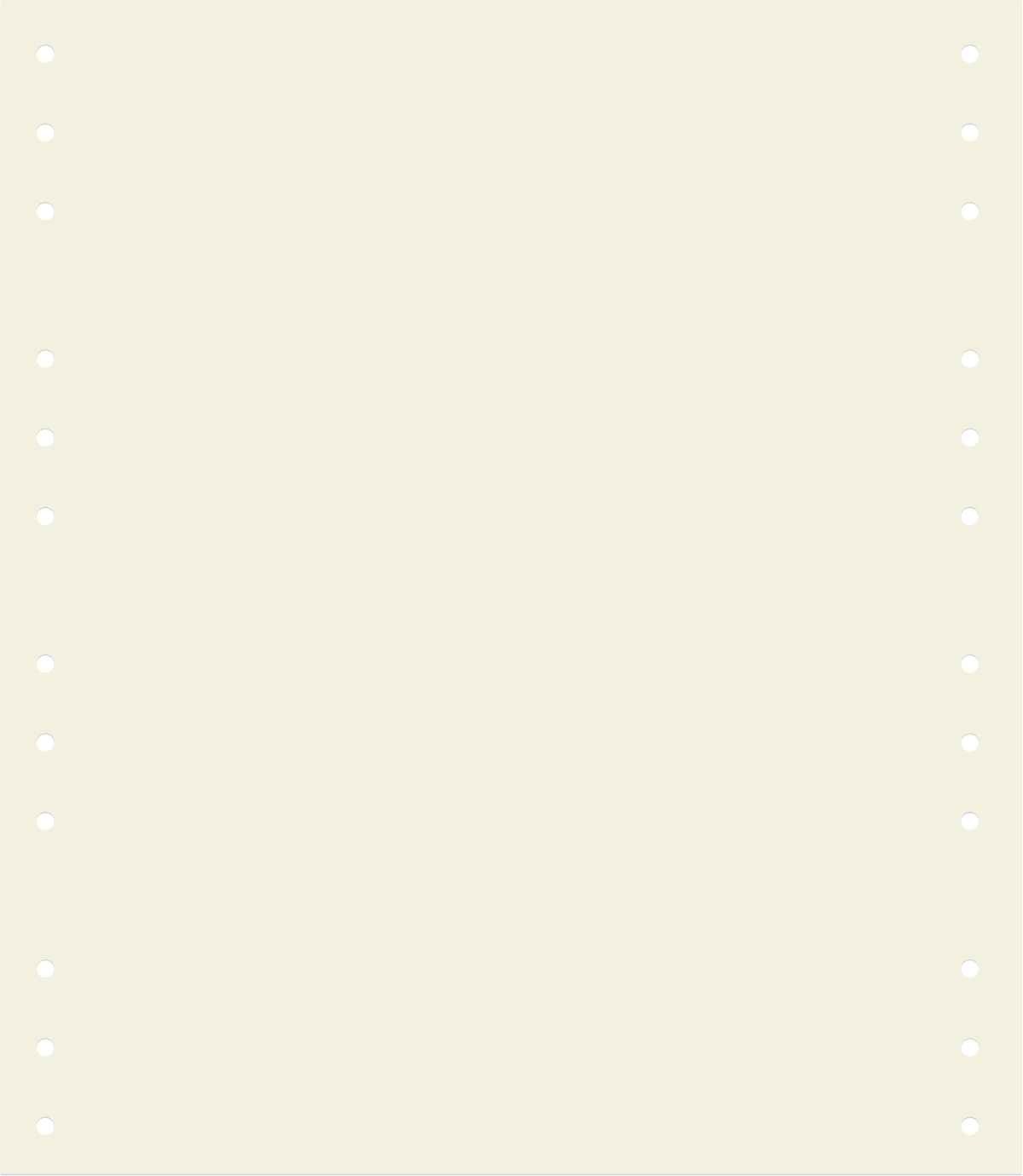
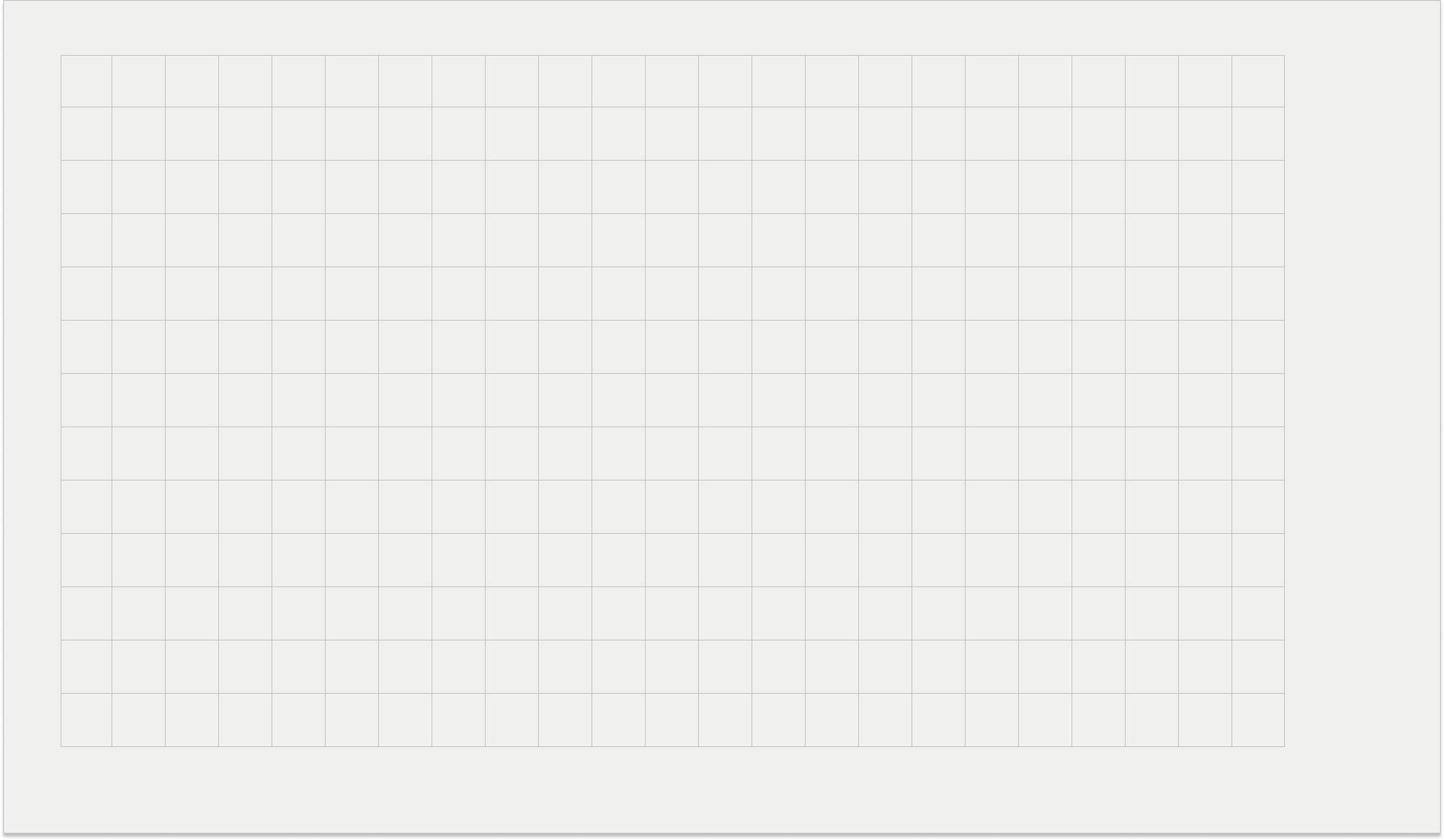

место рождения
Москва, 1984
Московский государственный университет печати (МГУП)
образование
дополнительное
образование
Магистерская программа по арт-терапии Нью-Йоркского университета
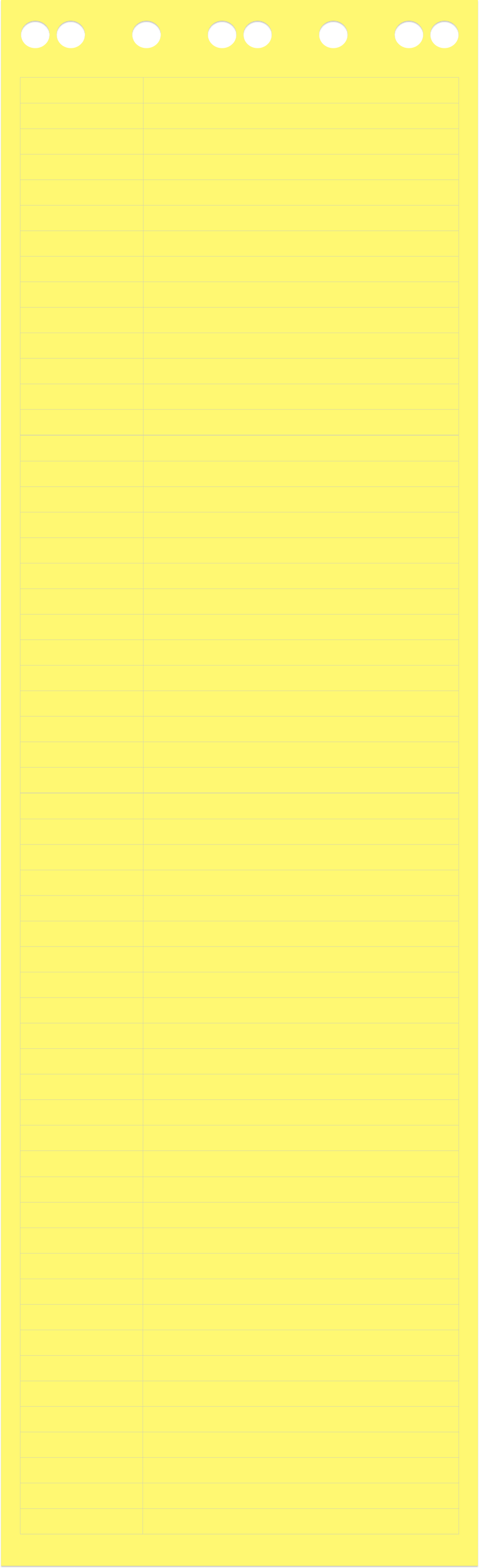
РАСПОРЯДОК ДНЯ
6:40-7:35 — Просыпаюсь по будильнику, читаю новости и сообщения друзей из других часовых поясов. Я стараюсь вдумчиво выбирать, что надеть. Хочется выглядеть уместно, но при этом ярко и радостно: в тюрьме все и так серо-бежевое. Часто ношу длинные платья с крупными забавными украшениями. По правилам Райкерс я не могу ходить в джинсах, спортивной одежде и любых майках или топах без рукавов. Каблуки разрешены, а кроссовки — нет, что странно: во время драк в них было бы удобнее убегать. Я всегда надеваю часы, потому что иначе в Райкерс невозможно понять, который час (ну, разве что спрашивать офицеров). Слышала такое объяснение: если бы заключенные смогли следить за временем, то стали бы требовать, чтобы обеды, прогулки и программы начинались без задержек. А на острове вовремя не бывает почти ничего. Может, только мои занятия.
Итак, я привожу себя в порядок и спускаюсь на кухню (у нас двухэтажная квартира). Сыну готовлю смузи, младшей дочке — кашу с фруктами, овощи. Средняя дочь не завтракает. Себе ланч-бокс собираю редко. Я совсем не утренний человек, поэтому стараюсь ни с кем из домашних не пересекаться — в лучшем случае выдавлю «доброе утро».
7:35-8:00 — Сажусь в машину и направляюсь в тюрьму. Дорога занимает минут 25: за это время я успеваю поговорить по телефону с мамой или друзьями, у которых уже середина дня, и иногда заработать штраф (я люблю быстро ездить). Райкерс находится в Квинсе, на острове прямо около аэропорта Ла Гуардия — на подъезде к нему я сворачиваю и прохожу первый КПП. Там у меня проверяют два пропуска: личный и на машину. Затем я въезжаю на мост, и это моя любимая часть пути. Ист-Ривер, садящиеся самолеты — вокруг такой простор. Через три минуты, уже на въезде на территорию тюрьмы, упираюсь в еще один КПП.
Мой офис выглядит как бытовка на стройке или трейлер — и считается люксовым вариантом, потому что стоит отдельно от тюрьмы. А значит, можно иметь при себе телефон, спокойно входить и выходить без досмотра. В офисе я первым делом отмечаюсь на специальном сайте: официально рабочий день начинается в 8, но главное прийти не позже 9:00 — иначе засчитают опоздание. Я провожу в Райкерс ровно восемь часов, минута в минуту: если я пришла в 8:17, то уйду в 16:17. На подготовку к первому занятию у меня есть где-то час: я собираю сумку с материалами, точу карандаши, распечатываю табель учета посещаемости. Саму программу я продумываю заранее, в пятницу. Чаще всего еще остается время налить себе чай. Если вместо обеда у меня тренировка, съедаю геркулесовую кашу с изюмом.
До здания тюрьмы я доезжаю на машине за пять минут. Личный транспорт тут огромная привилегия: требуется особое разрешение (свое я ждала больше года). Телефон оставляю в машине, захожу в здание и сразу иду на досмотр, похожий на тот, который проводят в аэропорту: нужно снять обувь, вытащить все из карманов, положить сумку на ленту и пройти через металлоискатель.
Никакой электронной системы на острове нет. В стеклянных будках сидит охрана, которая проверяет наличие пропуска — все время, что я внутри, он должен висеть на шее. Еще охрана нажимает на кнопки, открывающие и закрывающие решетки.
По длинному коридору я дохожу до следующей контрольной точки, снова показываю пропуск и снова оказываюсь в коридоре, только здесь по обеим сторонам расположены жилищные блоки. Там ужасно шумно, поэтому я изо всех сил ору: «Решетка!», чтобы офицер услышал, что я на месте, и пропустил меня. Внутри его коллега протягивает мне толстенную книгу посещений. Я пишу: «9:00. Анна, арт-программа, на посту» и захожу к заключенным с криком «Доброе утро!».
В Райкерс два типа жилищных блоков: есть одиночные камеры и общие. Последние выглядят как огромные спальни на 40-60 кроватей, которые разделяет узкий проход. Шкафов и тумбочек там нет. Все личные вещи хранятся в пластиковых контейнерах под кроватями — так их удобнее переносить, когда заключенного переводят из одного жилищного блока в другой. Еще есть общие комнаты отдыха (day rooms). Там стоят металлические столы с табуретками, соединенные между собой и прикованные к полу. Я чаще всего работаю с людьми, которые сидят в одиночных камерах. В day rooms их выпускают каждый день на несколько часов. Там я и провожу арт-терапию.
9:00-10:15 — Первая группа. Я захожу внутрь еще немного сонной, но заключенные встречают меня с такой радостью, что я сразу просыпаюсь и начинаю улыбаться в ответ. Я часто получаю от них сильный заряд позитивной энергии, и они про меня говорят то же самое, так что, наверное, это такой обмен между нами происходит. Часто бывает, что в самом конце сессии заключенные упрашивают: «Можно еще хотя бы пять минут?». Но важная задача нашей работы в том, чтобы соблюдать границы
и учить этому заключенных, поэтому я объясняю, что время строго ограничено. Перед выходом я пишу в книге: «10:15. Анна, арт-программа, ушла с поста», желаю заключенным заботиться о себе, а офицеру — быть в безопасности.
10:30-11:45 — Вторая группа.
11:45-14:00 — Прохожу обратно через все коридоры и КПП, покидаю здание и доезжаю до трейлера. Точу карандаши. Я в том числе работаю с заключенными, которые совершили нападение уже на территории тюрьмы и за это находятся в месте дисциплинарного наказания. Там мы используем не обычные длинные, а очень короткие карандаши, с половину пальца. Потом я обедаю или иду в спортивный зал для сотрудников, который находится тут же, на острове. Три раза в неделю я занимаюсь по видеосвязи с тренером из России. В зале грязно и не очень приятная атмосфера, но есть все необходимое. Зато я экономлю время на дорогу и регулярно тренируюсь.
14:00-16:00 — Третья группа. После я возвращаюсь в офис и вношу данные в систему: кто присутствовал, кто нет, были ли инциденты.
17:00 — Приезжаю домой — по пробкам на дорогу уходит меньше часа. Провожу время с младшей, готовлю и накрываю на стол. Встречаю старших из школы, и мы стараемся ужинать всей семьей (муж сейчас работает из дома). Потом иду купать и укладывать младшую.
20:00-22:00 — Стараюсь провести время со старшими детьми. Сижу со средней дочерью, пока она играет на арфе. Болтаю с сыном. Убираюсь.
22:00-00:00 — Умываюсь, болтаю с мужем. Обычно мы что-нибудь смотрим или просто лежим обнимаемся. Засыпаем обычно к 00:00, но иногда я могу потупить в телефоне. Утром себя за это ругаю.
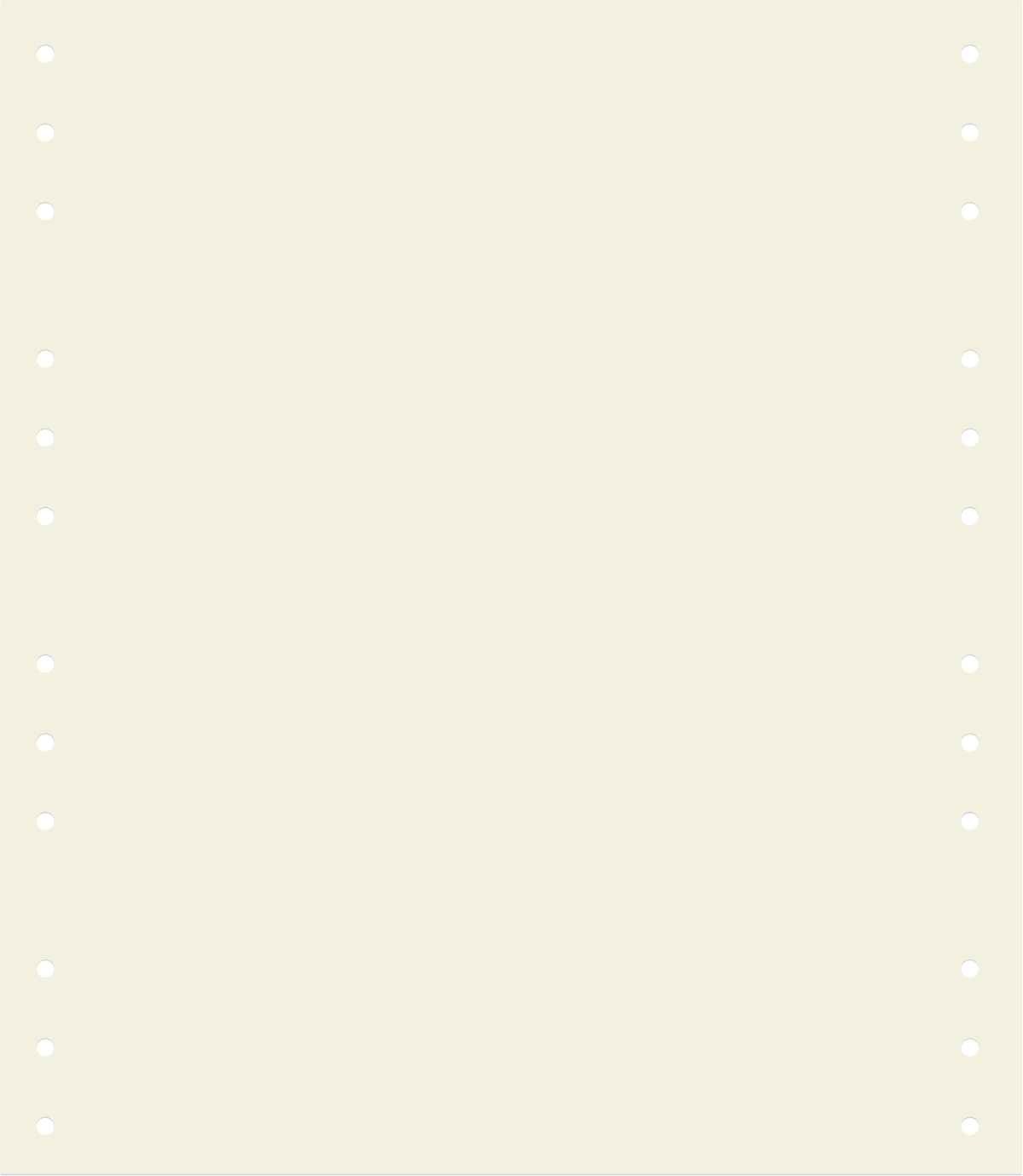
2000-2005
ПРО ВЫБОР ПРОФЕССИИ
И ВНЕЗАПНЫЙ УХОД В ГЛЯНЕЦ
Московский государственный университет печати (МГУП)
С юности меня не интересовали профессии, которые гарантированно приносят большие деньги. Я хотела стать учителем, любила лепить и рисовать. В итоге собралась поступать в Полиграфический институт на художника-графика. Папа сделал попытку уговорить меня на Финансовую академию. Это, кажется, был последний раз, когда кто-то из близких старался повлиять на мой карьерный выбор, — потом все поняли, что нужно просто смириться.
В конце первого курса Полиграфического я попала в молодежную газету «@кция», которую делала Света Максимченко (будущий директор кинотеатра «Ударник» и гендиректор «Москино». — Прим. The Blueprint). Очень веселое время: никто из команды толком не знал, что и как надо делать. Я по ходу училась работать с модульной сеткой, собирала всех у себя дома, и мы всю ночь сидели напротив компьютера, прикидывая верстку.
Через год я устроилась в ИД «Коммерсантъ», но уволилась оттуда, как только осознала, что там мой ближайший возможный карьерный виток — верстать по шаблону не только газету, но и ее приложение. В глянец меня занесло благодаря [редакционному директору The Blueprint] Саше Перепелкину, с которым меня свела «@кция». Был 2002 год, я жаловалась на то, что сижу без работы, и Саша такой: «О, моя знакомая говорила, что в GQ ищут дизайнера, пошли к ним в офис». Через полчаса я уже сидела в Condé Nast с арт-директором Сашей Белослудцевым, который чудом оказался а) не занят; б) выпускником Полиграфического института, так что мы все собеседование обсуждали преподавателей. В конце я наивно заявила, что мне все равно, какая у меня будет зарплата, и получила свой первый карьерный совет: больше никогда так не отвечать на этот вопрос. На следующий день я вышла на работу и тогда же впервые в жизни взяла в руки журнал GQ. Еще шокировала редактора [Андрея] Дейниченко: сказала, что не смогу без его помощи подписать картинки, потому что не отличаю Джорджо Армани от Доменико Дольче или Стефано Габбаны.
В моду я потом немного втянулась. Мне даже предлагали подработать моделью. Nina Donis очень понравилось, как на меня село их платье, которое они одолжили на первую церемонию «Человек года GQ», и они позвали сниматься. Меня тогда поставили вручать статуэтки вместе с [тогдашним главредом Алексеем] Зиминым.
2001-2002
Газета «@кция», дизайнер
ИД «Коммерсантъ», дизайнер
2002-2003
GQ, дизайнер

2004
AD, дизайнер

2006-2007
Interbrand, дизайнер
2007
Elle, дизайнер
ПРО ЗАЯВЛЕНИЯ НА УВОЛЬНЕНИЕ
2007-2008
Из дизайнера в арт-директора я выросла внезапно — благодаря моему коллеге по GQ Игорю Порошину, который был там замом главреда. Не думала, что как-то особенно ему запомнилась, но в 2007-м он позвонил мне с предложением сделать пилотный Forbes Style в качестве арт-директора. Я к тому моменту успела уже много где поработать дизайнером, но на такое повышение не рассчитывала. Затем Игорь ушел в Robb Report, команда Forbes Style потянулась за ним, и я в том числе. Впоследствии за мной закрепилась репутация человека, который в критической ситуации может все спасти. За этим меня взяли в Harper’s Bazaar: в 2009-м у журнала был редизайн, за новый макет отвечал арт-директор Дима Барбанель, но накануне сдачи он разошелся с руководством («Мой первый номер, майский, мы почти весь засиндицировали, а к сентябрю стали делать огромный редизайн. На момент этого редизайна у нас случился конфликт с арт-директором. И он просто ушел. За десять дней до сдачи. Все, кто работал тогда, никогда не забудут этих двух недель. Было ощущение, что мы в заложниках. Мы здесь ночевали, спали две недели по четыре часа и сделали сентябрь за две недели в полном новом макете», — вспоминала главред Harper’s Bazaar Даша Веледеева). Я тогда числилась арт-директором и в Robb Report, который сидел в соседней от «Харперса» комнате (оба журнала принадлежали Independent Media. — Прим. The Blueprint). Последние две недели перед сдачей редизайна я работала одновременно и там, и там в адском режиме: приходила в офис утром, уходила вечером следующего дня, ночь спала дома — и по новой. Мы закончили новый «Харперс», полетели согласовывать его в Нью-Йорк, а у меня была температура под 40. На обратном пути я решила сделать тест на беременность. Когда до меня дошло, что я уже ждала ребенка, пока так убивалась на работе, написала заявление на увольнение из «Харперса». А потом ушла и из Robb Report, потому что мы с мужем решили эмигрировать.
Forbes Style, арт-директор
2008-2010
Robb Report, арт-директор
2008
Art & Antiques, арт-директор
2009
Harper’s Bazaar, арт-директор

ПРО НЬЮ-ЙОРКСКИЙ «СНОБ» И ПЕРЕЕЗД В ШТАТЫ
Переехать в Нью-Йорк нам помог журнал «Сноб» — точнее, его недолго просуществовавшая американская версия. Тогда, в 2010-м, мой муж [Григорий Кегелес] работал хедхантером в Москве, и к нему обратился «Сноб» с запросом найти человека, который бы возглавил их проект в Нью-Йорке. Муж указал на себя — ну и стал директором по развитию американского «Сноба». Мы с ним как раз недавно вернулись из Нью-Йорка и обсуждали, что было бы здорово там пожить. В марте 2010-го я родила, и в августе мы втроем полетели в Штаты. Сначала каждые полгода приходилось куда-то выезжать, потому что зарегистрировать новую организацию оказалось не так-то просто, и мы жили по туристической визе. Ну а когда главред Владимир Яковлев покинул «Сноб» (в ноябре 2011-го. — Прим. The Blueprint), от международных версий было решено отказаться, и офис в Нью-Йорке закрылся. Муж поступил в университет на MBA, мы получили учебную визу, и я стала думать, чем заниматься. В глянец не хотелось совсем: во время переезда я взглянула на свою коллекцию журналов и расстроилась, что эта груда макулатуры — по факту результат моей карьеры.

2012-2017
Школа City & Country School, учитель
рисования
ПРО СЛУЧАЙНЫЙ УХОД В АРТ-ТЕРАПИЮ
В Нью-Йорке я несколько лет вела уроки рисования для детей, в том числе в школе City & Country School, где [с 1941 по 1946 год] учился Владимир Познер. А в 2017-м впервые услышала про арт-терапию. Это направление психотерапии, где художественная практика — основной инструмент для выражения и исследования внутренних переживаний. Главное в арт-терапии — процесс творчества.
Когда я начала читать про арт-терапию, сразу наткнулась на имя Лены Макаровой. Так впечатлилась, что тут же написала ей в фейсбуке и спросила, не хочет ли она приехать в Нью-Йорк. Склейка — и вот я уже организовываю ее двухдневный воркшоп. Меня это очень зарядило, я стала дальше погружаться в тему и на следующий год поступила на магистерскую программу Нью-Йоркского университета по арт-терапии. Обучение длилось два года и предусматривало обязательную практику. Первое место, куда я устроилась, мне не понравилось. Нужно было срочно искать замену, но вариантов почти не осталось. Так я оказалась в судебном психиатрическом центре Керби.
2018-2020
Магистерская программа по арт-терапии Нью-Йоркского университета


ПРО ЗАКЛЮЧЕННЫХ,
ПРИЗНАННЫХ НЕВМЕНЯЕМЫМИ
В Керби попадают люди, совершившие тяжкие преступления, но признанные невменяемыми. У них серьезные ментальные заболевания, поэтому в моменте они не отдавали себе отчет в том, что делали. Был, например, очень крутой детский врач из Верхнего Ист-Сайда, у которого неожиданно случилась первичная манифестация шизофрении: он прямо во время приема зарезал своего пациента, а сам при этом считал, что спасает ему жизнь. Керби — это одновременно и тюрьма, и психиатрический госпиталь, где заключенные обязаны проходить лечение.
Первым делом моя супервайзерка выдала мне личные дела тех, с кем нам предстояло работать. Я читала чудовищные подробности преступлений и думала, что это, должно быть, какие-то монстры. Но при знакомстве они произвели на меня совсем другое впечатление. Ко многим я привязалась и вспоминаю их с большим теплом. Полгода я помогала проводить занятия, а потом стала придумывать программу самостоятельно. В конце мы организовали выставку работ: каждый участник проводил экскурсию и рассказывал про свое произведение.
В Керби мне нравилось, но был один существенный минус. Мы все время занимались с одной и той же группой из 15 человек, большинство из которых, вероятно, на волю не выйдут (хотя формально шанс есть: если суд решит, что они больше не опасны для себя и окружающих). Мне же хотелось работать с разными людьми и с теми, у кого больше шансов вернуться в общество.
2018

Судебный психиатрический центр Kirby (Kirby Forensic Psychiatric Center), арт-терапевт
ПРО САМЫЙ ЧУДОВИЩНЫЙ
ОПЫТ В КАРЬЕРЕ
2019
Специальная коррекционная школа Titus (Titus School), арт-терапевт
В одной частной коррекционной школе я занималась арт-терапией с детьми от пяти до 18 лет с психическими и поведенческими расстройствами. У меня там был мальчик, который в первое время рвал и метал: носился по моему кабинету, швырялся карандашами, комкал бумагу. Обычно в таких случаях учителя звали специальных сотрудников, которые уводили «опасного для безопасности» ребенка в комнату без окон, запирали и держали его там до тех пор, пока не услышат, что он успокоился. Такая вот дисциплинарная мера в школе, где обучение стоит $200 тысяч в год. Этот мальчик все время спрашивал: «Ну что, а теперь позовешь их?». Я отвечала, что нет, пока он не причиняет вреда себе или мне. Он привык, что никто не дает ему шанса, и ему было тяжело поверить, что кто-то готов с ним работать. Два месяца он меня проверял, а потом пришел на занятие, сел за стол, спокойно начал рисовать и больше никогда не проявлял никакой агрессии. Но были и другие истории. У меня не раз возникало ощущение, что директор хочет только одного: заработать как можно больше денег. Там как будто специально создавали среду, в которой школьник становился еще агрессивнее. В Нью-Йоркском университете я писала диссертацию о том, как арт-терапия помогает детям с агрессией, и хотела работать именно с ними. Но после этого опыта передумала.
ПРО ПОПЫТКИ УСТРОИТЬСЯ В РАЙКЕРС
Я очень хотела работать в Райкерс. Наверное, нормальные люди устроены по-другому, но меня часто тянет туда, где должно быть страшно. Взыграло и любопытство: одна из самых больших и опасных тюрем в мире все-таки, часто мелькает в новостях, фильмах и сериалах (например, тюрьма попала в сериал «Однажды ночью» от HBO. — Прим. The Blueprint). Еще я чувствовала, что могу помочь тем, кому никто помогать не хочет.
Сначала я откликнулась на объявление о поиске волонтера: нужно было помогать в женской тюрьме во время семейных дней. Я там заручилась кое-каким доверием, и мне рассказали, что скоро откроется вакансия арт-терапевта. Тогда выбрали не меня, а другого кандидата, который занимался музыкой и театральными практиками. Но через год эта вакансия появилась снова, и меня взяли. В Райкерс, после того как принимаешь предложение о работе, проходишь проверки и регистрацию — это занимает от трех месяцев до года.
Всего в тюрьме около 8000 сотрудников, и никому нет никакого дела до содержания моих программ. Важно, чтобы я приходила вовремя и не нарушала правила безопасности, а в остальном у меня полная свобода творчества.

ПРО ЧАКРЫ И ОРИГАМИ
Иногда заключенные приходят с конкретным запросом. Например, просят посвятить занятие открыткам для близких — это важный способ сохранять связь с внешним миром. Многие хотят научиться рисовать героев мультиков, которые нравятся их детям, буквы в граффити-стиле или человеческое лицо. А еще заключенным очень нравится делать оригами.
В других случаях я даю конкретные задания. Вот одно из моих самых любимых: я изображаю на бумаге какую-нибудь закорюку и прошу заключенных закончить рисунок. Такое упражнение помогает избежать страха белого листа. Мою непонятную, ничего не значащую линию можно превратить во что угодно — в этом есть волшебное ощущение контроля и власти, сотворчество.
Бывают и долгосрочные проекты с образовательной составляющей. Недавно мы четыре месяца изучали чакры и их связь с эмоциями. Слушали музыку, повторяли простые позы из йоги, которые можно принять не вставая со стула, таким образом активировали конкретную чакру и пытались ее изобразить. В итоге получилось несколько сотен рисунков, из которых мы сейчас собираем выставку. Заключенные будут сами представлять свои работы и рассказывать про проект сотрудникам Райкерс. Такой опыт много значит для них: это возможность побыть в экспертной позиции, примерить на себя новую роль — художника. Ну и еще на открытии заключенные смогут поесть обычную еду. Не представляете, сколько радости может принести не самая вкусная пицца.
2020-2022
Хоспис в Вестчестере, волонтер


ПРО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Меня все спрашивают постоянно в разных формулировках — как я считаю, помогает ли это людям. Разумеется, арт-терапия не меняет заключенных мгновенно. Но они получают опыт, который может запустить процесс изменений. Путь в арт-терапии мы почти всегда начинаем с того, что человек говорит: «Я не умею рисовать, у меня получится полное дерьмо». А потом видит, что от него не требуют выдать высокий художественный результат, и начинает наслаждаться процессом. Радуется, когда получается то, чем он никогда раньше не занимался. Я уверена, что если этот опыт научит заключенных не бояться пробовать новое и незнакомое, то это сильно поможет им в будущем. Покажет, что вокруг на самом деле много возможностей, сделает их более открытыми. Многие ведь выходят из тюрьмы и вскоре снова туда попадают, потому что привыкли вести себя определенным образом, а перестраивать жизнь и привычки во взрослом возрасте — сложно и страшно.
Заключенные часто открыто выражают мне благодарность. Говорят, как им важна эта программа, мой позитивный настрой, вера в них и ощущение стабильности. У многих людей, с которыми я работаю, никогда не было надежного взрослого рядом, поэтому они пытаются и во мне найти какой-то подвох. Спрашивают, работаю ли я с ними исключительно ради денег, или занимаются самосаботажем, чтобы убедиться в том, что, как только они начнут вести себя плохо, я тут же исчезну. То, что я всегда возвращаюсь, дает им ощущение опоры и надежности. Со временем, надеюсь, эта внешняя опора превратится во внутреннюю, и заключенные будут меньше зависеть от других, потому что уверенность и доверие появятся в них самих.
2022-2023
First Aid of the Soul

ПРО РАЗНИЦУ МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ В РАЙКЕРС
На острове — десять тюрем, и у каждой своя специфика. Сейчас я много работаю с мужчинами, которых перевели в дисциплинарный изолятор за то, что они совершили преступления и на острове [Райкерс]. Считается, что они представляют высокий риск для безопасности. Еще я провожу арт-терапию для молодых мужчин от 18 до 22 лет. В среднем в группе — 10-15 человек. Женщин я с мая 2025-го не веду, чему очень рада. С ними я чувствовала себя аниматором в турецком отеле: мне приходилось из кожи вон лезть, чтобы их растормошить и включить в процесс. В Райкерс женщины часто ходят в белье, не причесываются и не моются, не занимаются спортом. Многие — в депрессивном состоянии. По полдня не встают с койки. При этом они очень нуждающиеся во всем — во внимании, в энергии, в арт-материалах. К ним сколько ни принесешь — они все заберут.
С мужчинами все иначе: от них исходит огромная энергия, хоть часто и агрессивная. Большинство стараются держать себя в форме, качаются. Мне не приходится быть батарейкой — наоборот. Моя цель в том, чтобы их заземлить, научить успокаиваться и справляться со злостью, поэтому я прихожу на занятия позитивной, но очень спокойной. С агрессивными мужчинами я чувствую себя куда более полезной и выхожу оттуда наполненной и с улыбкой.
ПРО ТО, ПОЧЕМУ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ
СЛОВО «ПРЕСТУПНИК»
Я верю в то, что язык определяет мышление, и намеренно не использую такие слова, как «преступник», «уголовник», «убийца», «гангстер». Мы с заключенными много говорим о том, чтобы и они так себя не называли.
Да, я общаюсь с людьми, которые состоят в банде и совершили убийство. Это действительно часть их опыта. Тюрьма — это наказание за конкретное действие, но оно не определяет личность. Если я однажды обманула кого-то, разве это на всю жизнь делает меня «вруньей»? Если так, то нет смысла даже пытаться измениться.
Если человеку сказать, что он «преступник», то это как будто закрывает для него возможности стать кем-то другим в будущем. В терапии важен именно этот шанс — показать, что можно, несмотря на прошлое, стать другим человеком. Обычно я использую формулировку «человек, совершивший преступление»: он его совершил, понес наказание и в будущем может поступать иначе. Среди заключенных в Райкерс много хороших людей. Ошибки, за которые они расплачиваются, не определяют их целиком.

ПРО ДРАКИ И ХАРАССМЕНТ
В тюрьме очень много разборок. Обычно они возникают не из-за личных ссор или недопонимания, а по «заданию», которые заключенные низкого ранга получают от своих главарей.
Иногда резня происходит у меня на глазах. Как правило, в ход идут лезвия, но вообще находчивость заключенных поражает: мужчины могут на кого-нибудь кончить или пописать, а женщины — облить менструальной кровью. Даже прикованные наручниками к индивидуальным столам, они находят способы проявить агрессию друг к другу. Один парень спустил штаны, покакал и запустил своими фекалиями в другого заключенного. При этом в комнате дежурят офицеры, поэтому кулаками тут особо не поразмахиваешь: действовать надо быстро. Есть секунд 15, прежде чем сотрудник тюрьмы подбежит к ним и зальет всех спреем (выглядит он как перцовый баллончик, но по ощущениям — в разы сильнее: заключенные говорят, что подобный используют для отпугивания медведей).
Я ни разу не видела, чтобы офицеры применяли к заключенным насилие: толкали их там или били. Тут с этим не церемонятся: отстраняют от работы на трое суток, а никто не хочет вычетов из зарплаты. Также у заключенных есть возможность набрать по городскому телефону 311 и пожаловаться на сотрудника. По закону их заявки обязательно должны быть рассмотрены. Некоторые этим пользуются и наговаривают на тех, кто им просто не нравится. Жалобы поступают самые разные: могут сказать, что ты продаешь наркотики, склоняешь к сексу, допускаешь расистские высказывания. Тогда нужно доказывать свою невиновность: беседовать с руководством, заполнять бумажки, проходить проверки. Иногда доходит до смешного. Как-то раз один заключенный из моей группы возмутился: «На каких основаниях в тюрьме нет ни одной программы, посвященной поэзии?». Моя начальница попросила что-нибудь им почитать — лишь бы формально удовлетворить претензию.
Я, кажется, уже научилась заранее понимать, возможна ли драка. Например, когда кучками перешептываются, приходят в кроссовках, а не в шлепках, в которых нападать неудобно. Или когда вместо маек надевают вещи с длинными рукавами. При этом многие заключенные очень ценят наши занятия — случалось, что ко мне подходили и говорили: «Слушай, сейчас тебе лучше уйти». В таких случаях я не задаю вопросов, быстро убираю вещи в сумку и исчезаю с благодарностью, что меня предупредили.
А вообще знаки внимания я получаю специфичные. Мне регулярно показывают пенисы. Отпускают в мой адрес комментарии вроде: «Сегодня я думал о тебе, когда мастурбировал». Бывает, признаются в любви. Что я в этом случае делаю? Система Райкерс никакой специальной защиты или психологической поддержки не предусматривает: после инцидента я могу написать заявление, и виновника, скажем, переселят в более жесткие условия. А потом я должна вернуться и продолжить занятия по расписанию. Ну и в целом тут к этому такое отношение, как будто и удивляться нечему: это же тюрьма.
Я не просто пишу заявления, а всегда стараюсь потом вернуться к этому заключенному и обсудить с ним, что произошло, зачем он так поступил. Многие сильно удивляются, что я могу говорить открыто и не краснея называть пенис пенисом. Одни сами начинают смущаться, другие выдают подробные объяснения. Мне очень неприятно оказываться в таких ситуациях, но нет сомнений, что для заключенных это попытка выразить какие-то чувства, а других способов сделать это они не знают. Поэтому разговоры помогают нам наладить контакт, разобраться в том, какая потребность стоит за этим поведением, и обсудить, как иначе ее можно было реализовать.
ПРО ЗАРПЛАТУ
Сейчас я получаю $62 тысячи в год до вычета налогов. В Райкерс зарплата повышается автоматически, через два года, так что свою прибавку я получу в сентябре. Некоторые мои коллеги работают в тюрьме исключительно потому, что тут в целом неплохо платят. Я же прекрасно понимаю, что в частной практике могла бы зарабатывать на арт-терапии гораздо больше. Но у меня есть привилегия выбирать любое дело по душе: мой муж достаточно зарабатывает.
ПРО КАРЬЕРНЫЕ ПЛАНЫ
Тюрьма добавляет моей жизни смысл, но я не думаю, что захочу застрять тут еще лет на десять. Боюсь, что работа превратится в рутину, что я перестану эмоционально подключаться и буду делать ее на автомате. Для кого-то это здоровый подход, но для меня — тревожный звоночек.
А планы на будущее у меня довольно конкретные. Хочу получить докторскую степень и поработать с детьми, у которых неизлечимые заболевания на терминальной стадии, и с их семьями. У меня на примете уже есть подходящая организация.
2023-…
Тюрьма Райкерс,
арт-терапевт




