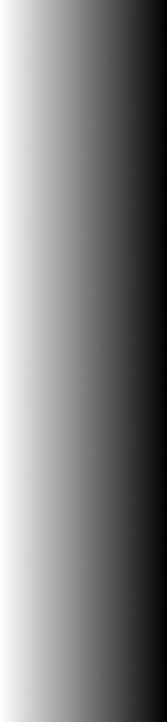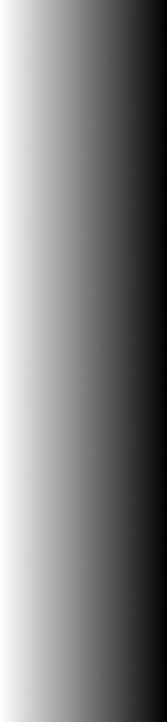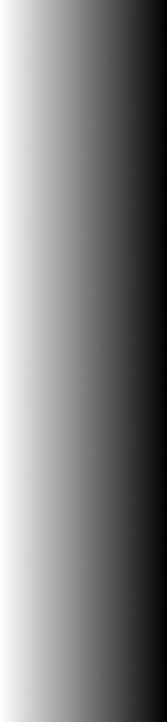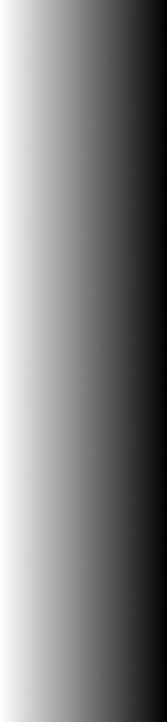Треснул мир напополам
ФОТО:
БАТЫР АННАДУРДЫЕВ, ИРА ПОЛЯРНАЯ,
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
В «Новой опере» состоялась премьера поставленного для «Балета Москва» танцспектакля Ольги Лабовкиной «Все, что после». Полноценный двухактный спектакль — редкость для бессюжетной хореографии. А костюмы, которые напоминают Gucci то Сабато де Сарно, то Алессандро Микеле, — редкость для отечественной сцены. Ксения Ламшина, руководитель радио «Культура», автор телеграм-канала «Культурные люди», поговорила с хореографом Ольгой Лабовкиной, художником-постановщиком Галей Солодовниковой и художником по костюмам Ольгой Никитиной о том, как создавать на сцене ощущение кризиса, безвременья и выхода из них.

Травма и безвременье
«Мы говорим о травме, о неком кризисном состоянии и способах его проживания, — описывает концепцию постановки хореограф Ольга Лабовкина. — Я работаю с психологом, и, по ее словам, выход из кризиса — это максимально творческое состояние, каждый кризис уникален и, соответственно, способ выхода из него тоже уникален. В спектакле мы рассматриваем момент проживания травмы. Это может быть травма личная, семейная, родовая, коллективная, не важно. Я думаю, что каждый из нас сталкивается с кризисными состояниями — это неотъемлемая часть жизни и развития».


В первом отделении все закольцовано. Герои замкнуты в бесконечные круги рутины, которые преследуют нас всех. Тут резкая хореография, тут каждый существует сам по себе, а подача информации симультанна. Мы не знаем, что было до, почему все пришло к краху, одиночеству, безуспешным попыткам сбиваться в стаи, но мы видим мир уже в раздробленном состоянии.
«Основной идеей было создать пространство, не привязанное к конкретному временному отрезку. Мне представлялся некий ретрофутуризм с его ностальгической эстетикой и легкой иронией, с его желанием выразить настоящее или будущее через элементы прошлого, — объясняет Лабовкина. — Пространство, на мой взгляд, абстрактно и построено на микроузнаваниях. В нем есть всем хорошо знакомые торшер, диван, однако нет чувства домашнего уюта, предметы как будто случайно соседствуют друг с другом. Еще мне было важно, чтобы все было функционально и чтобы артисты могли полноценно взаимодействовать с этим пространством».
«Это не стилистика какого-то конкретного времени, есть тут отсылки и из 60-х, и из 70-х, но они неузнаваемые, не лобовые, — добавляет художник-постановщик Галя Солодовникова. — Оно очень условное, это пространство, но, с другой стороны, это узнаваемая жизнь. Это одновременно и ванна, и гостиная, и офис, и комната ожидания перед дверью с лампочкой, вход куда-то в кабинет или в какую-то операционную. Душевая кабина становится лифтом, потом снова душевой. Мне хотелось смазать границы... Даже стены будто бы из разных панелей состоят. Задача была совместить узнаваемость и одновременно некую усредненность, чтоб мы могли узнать себя в этих заходящих в комнату людях».






Киборги и властолюбцы
Как такового сюжета и двигающих его героев в постановке нет, но вот, например, девушка в розовом мини-платье с отложным воротничком, и, по словам Лабовкиной, «это киборг с небольшим функционалом вроде домашнего робота, помогающего по дому. Иногда программа дает сбои, и девушка совершает нелогичные действия, например, ест страницы из книги».
А вот мужчина в терракотовом, в стиле 1970-х, костюме «проживает сценарий „жизнь — это боль и предательство“, и каждый раз ему приходится испытывать боль из-за кактуса, предавать и быть преданным, так как вырваться из своего сценария он не в силах. Этот человек со странной походкой мечтает о власти и во втором акте становится владельцем крошечного острова, на котором помещается всего одно кресло».

Вишневый и шафрановый, болотный, баклажановый, серо-голубой, брючные костюмы, длиннополые пальто, короткие прямые платья с колготками в тон — цветовая гамма и силуэты костюмов в первом отделении то и дело напоминают о Gucci Сабато де Сарно. Впрочем, художница Ольга Никитина говорит, что за модой, конечно, следит, но конкретные референсы не называет, предпочитая говорить не о стиле, а о комфорте.
«Танцовщикам должно быть удобно и не жарко, а это непростая задача, — говорит Ольга. — В хлопковой ткани комфортно с точки зрения температуры, но она не тянется. А в эластане жарко, и он, конечно, не совсем попадает в ту эстетику, которой мы хотели добиться. В итоге в костюмах ткани преимущественно натуральные с минимальным количеством синтетики, и практически во всех мужских и женских штанах вставлены ластовицы, обеспечивающие свободу движения».

Впрочем, самый мощный визуальный образ первого отделения — трещина, рассекающая стену, и рифмующиеся с ней кровавые разрезы на костюме одного из героев, которые он медленно обнажает, расстегивая вшитые тут и там молнии.
«Мы изначально живем с этой трещиной, и она с самого начала ощущается, — говорит Солодовникова. — Вроде бы мир стабилен, цикличен, мы двигаемся через эти пространства „работа-дом“ и „дом-работа“. А потом видим, что мир начинает разъезжаться у нас на глазах».





Победа тела над духом
В начале второго отделения алые молнии сменяются красными шапочками и плавками пловцов. Занавес опущен, танцовщики на переднем плане. Рельефные мышцы, выверенные движения, как если бы ожили персонажи советских плакатов.
«Мне не хотелось давать ответы, мне, скорее, было интересно показать разные грани проживания сложной ситуации, ситуации раздробленности. Кто-то пытается ухватиться за остатки прошлого, кто-то борется со своими страхами, кто-то сражается за жизнь, выталкивая ненужного персонажа из своей жизни, кто-то захватил власть и правит всего лишь одним человеком, — объясняет Лабовкина. — Мы выстраивали разные картины. И есть инфантильно-оптимистичные пловцы, которые как бы говорят: „Да вы что? Мы вот уже плавать научились. Сейчас мы и вас научим!“. Это такой образ некого гротескного, идиотского даже оптимизма».
«Это переход на красный, ничего, кроме красного, не смотрелось бы так ярко и при этом отвечало бы нужной эстетике», — добавляет Ольга Никитина. И правда, второе отделение, если описывать его аналогиями из современной моды, это уже не вишневый Сабато де Сарно, а алый, иногда в сочетании с насыщенно-зеленым Алессандро Микеле.

Сбрасывая кожу




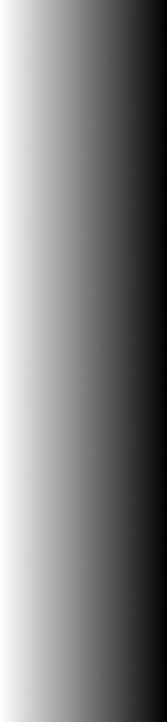
Во втором отделении меняется вообще все. Декорации переворачиваются, костюмы из бытовых становятся абстрактно-минималистичными — то кричаще-красными, то прозрачно-телесными. Тут люди пытаются найти себе подобных, объединиться, почувствовать любовь. И это разговор не только о романтической любви, но и о любви в высшем ее понимании, в том смысле, что любовь — это и есть пространство, где можно стать человеком.
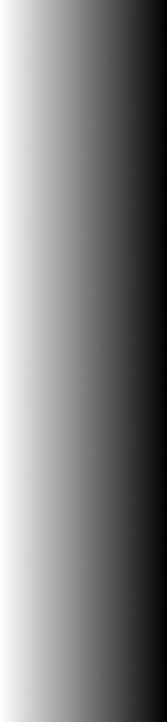

«Если в первой части людей много, но они существуют параллельно, даже не смотрят друг другу в глаза, как будто бы находятся рядом, но не видят друг друга по-настоящему, то во второй части есть момент некого расширенного тела», — говорит Ольга Лабовкина.
«Во втором акте мы видим, что мир абсолютно распался, остались лишь островки нашей привычной жизни. Хотелось создать ощущение, что это островки в океане и они плывут, тонут. На них еще где-то теплится наша привычная и обычная жизнь, но и ее приходится отпустить», — добавляет Солодовникова.

Отпустить — это не просто попрощаться, а буквально оторвать от себя. Рукава прозрачных красных костюмов тянутся, будто это кожу снимают заживо.
«Мы хотели действительно снять костюмы на сцене, чтобы танцовщики стягивали их друг с друга. Думали, что в этом случае костюмов на каждом должно быть два, но оказалось, что так и танцевать сложнее, и смотрится на сцене не так, как мы рассчитывали. И мы решили ограничиться тянущимися рукавами. Ход более простой, но не менее визуально красивый», — говорит Ольга Никитина.


«Знаете, красный, конечно, это и цвет агрессии, — подхватывает Лабовкина. — Кто-то из критиков назвал сцены второго акта „кишащей массой, кровавой, как мясной фарш“. Мне действительно захотелось обезличить и обобщить танцовщиков, сделать их некой пульсирующей массой. И потом происходит перевоплощение, которое выражается в более безопасном телесном цвете костюмов, смягчающем, успокаивающем. Мне хотелось привести зрителя к этому образу новорожденного. Здесь вспоминается „Солярис“ Лема: пульсирующая разумная масса, энергетический потенциал, что рождает из себя все новые и новые образы».
«Любовь... — продолжает Ольга. — Ну конечно, мы говорим об отношениях. Мне кажется, что любовь — это то, к чему мы приходим в конце спектакля и рассматриваем любовь не на уровне отношений мужчины и женщины, не только романтическую любовь — это только один слой. Вот есть внутренняя война, внутренний конфликт, внутренняя агрессия — это то, что иногда нами движет в нашем принятии решений. Но решение любить и исходить из любви, из любви к своему делу, к людям, к себе — это какое-то важное решение, и для меня это признак зрелой личности. Ее отличает именно эта способность творить из любви и созидать из любви. Наверное, к идее созидания мы приходим в конце, поэтому я говорю, что этот спектакль о любви, но я подразумеваю масштабное чувство».




Цветок кактуса

Помните цветную капусту, с которой на протяжении всего повествования ходит Хуан, главный герой романа Хулио Кортасара «Экзамен»? Во всех передрягах он словно цепляется за капусту, как за единственное, что стабильно, что будет с ним всегда. В спектакле «Все, что после» вместо капусты кактус, который есть и в первом, и во втором отделении. И есть еще лампа — тоже персонаж обоих действий.
«Для меня что лампа, что кактус — это элементы быта, — объясняет Солодовникова. — Лампа, особенно такая лампа, это очень узнаваемый код жилого пространства, какой-то гостиной. Мы сразу придумали, что она должна вращаться. Здесь она стала и маятник, и ось, и препятствие. А цветок для меня был очень важен как символ души, чего-то живого. Но само пространство было такое геометричное, что не хотелось обычного цветка. Нужен был кактус и чтобы только в конце он расцвел, чтоб эта форма геометрическая дала росток жизни и надежды».