Long story short
ТЕКСТ:
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ
ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Завтра в Гостином дворе стартует ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Мы уже составили свой список стоящих внимания новинок. А теперь у нас для вас хорошие новости — даже если вы привыкли выходить с ярмарки с запасом книг на полгода вперед, сумку-тележку вполне можно оставить дома. Важные романы современных авторов по объему не чета Толстому, Диккенсу или даже Джорджу Мартину. Как вышло, что писатели стали излагать свои мысли короче и причем тут сериалы, эмпатия и философские трактаты, рассуждает Галина Юзефович.
Одной из самых громких новинок ярмарки Non/fiction станет «Йеллоуфейс» — злой и остроумный роман молодой американки китайского происхождения Ребекки Куанг, повествующий об интригах внутри книгоиздательского бизнеса, о причудливых изгибах политкорректности, об условности так называемой новой этики и о том аде, в который нас погружают социальные сети. Все эти сложные темы писательница упаковала в 420 страниц — по нынешним временам вполне солидно. Но если вспомнить, что литературный дебют Куанг, эпическая фэнтези-трилогия «Опиумные войны», в которой герои лихо перемещались по альтернативной Евразии, сражаясь с коварными врагами вовне и опасными духами внутри себя, насчитывала 1800 страниц, выходит более чем скромно.
То же можно сказать и о других важных книгах, которые будут представлены на ярмарке. Философская антиутопия Алексея Поляринова «Кадавры» — 280 страниц. «Цикады» Аси Володиной — 352 очень крупным шрифтом. Увенчанная Букеровской премией «Песнь пророка» Пола Линча — 400 страниц с широченными полями. Интереснейший роман — мыслительный эксперимент Аси Демишкевич «Раз мальчишка, два мальчишка» (давайте вообразим, что в армию можно забирать кого угодно — например, тринадцатилетних подростков) — вообще 188. За редкими исключениями (по большей части принадлежащими перу писателей постарше) все, что сегодня можно отнести к категории «серьезной», «высокой», интеллектуальной прозы — тексты более или менее компактные.
Литературный СДВГ
Что же заставляет авторов так беззастенчиво ужиматься, словно на буквы в стране дефицит? Самая простая и не лишенная оснований гипотеза состоит в том, что урезать свои романы писателей побуждают два обстоятельства. Во-первых, некоторое недоверие к читателю, испорченному вездесущими монтажными склейками и лишенного в силу этого привычки к вдумчивому, медленному чтению. А во-вторых, собственная писательская тяга к быстрому дофамину. Литераторы сегодня все чаще желают не столько писать, сколько «быть писателями», то есть практиковать писательский образ жизни: представлять книги на публике, греться в лучах скромной славы на фестивалях, сидеть на театрализованных читках своих романов, волноваться на вручении премий и описывать творческие искания в социальных сетях. Но чтобы все это стало реальностью, роман в первую очередь необходимо закончить, и чем он короче, тем быстрее наступит желанный миг.
Все это, конечно, полностью исключает путь условной Донны Тартт, шлифующей свои 700-страничные кирпичи по 10 лет, или Абрахама Вергезе (его 800-страничный «Завет воды» тоже одна из важнейших книг предстоящей ярмарки), зазор между первым и вторым романами у которого составил немыслимые полтора десятилетия. Новая генерация писателей себе такую роскошь позволить не может — ни с институциональной, ни с чисто поведенческой точки зрения. Если ты не озаботился обеспечить себя долгоиграющей репутацией в те времена, когда это еще было возможно, а литературный мир не разогнался до сверхзвуковых скоростей, то стоит тебе хотя бы ненадолго выпасть из обоймы и перестать подавать информационные поводы, тебя забудут. И, соответственно, ты лишишься даже тех скромных бонусов, которые сегодня приносит писательская профессия.
Но сводить все на свете исключительно к читательскому «клиповому мышлению» и писательскому СДВГ было бы несправедливо. Очевидно, укорачивание книг, претендующих на серьезность и «важность», имеет и другие причины, укорененные в первую очередь в изменении той роли, которую литература играет в мире.
Классные истории идут в кино
На протяжении многих столетий литература была для человечества источником сразу и историй, и идей, и эмоций. В сущности, никому не приходило в голову расчленять три эти составляющие — все они были равноправными элементами стоящей перед автором художественной задачи. Однако по мере развития кино и сериалов первый элемент литературной триады попал в зону риска.
Выяснилось, что история, рассказанная визуальными средствами, обыгрывает свою литературную однофамилицу с разгромным счетом — упаковать в слова столько слоев, деталей, красок и нюансов, сколько вмещает в себя движущаяся картинка, невозможно. Хуже того, экранизации книг в какой-то момент начали подменять, замещать в общественном сознании свои литературные первоисточники. Для многих из поколения нынешних тридцатилетних и «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, и «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина начались с фильмов, а не книг, и во многих случаях ими же закончились. Что уж говорить об «Игре престолов» — до выхода одноименного великого сериала цикл фэнтези-романов Джорджа Мартина оставался вещью не то чтобы совсем никому не известной, но все же нишевой, локальной. Иными словами, самые лучшие истории перекочевали из литературы в другие медиа, с известными оговорками оставив, впрочем, за книгами два элемента неделимой некогда троицы — эмоции и идеи.
Когда утверждение, что сериалы — это новые романы, перестало восприниматься как эпатаж и стало общим местом, литературе пришлось адаптироваться к сложившимся реалиям. История перестала быть главной опорой романа, а значит, пришлось изобретать что-то если не вовсе новое, то по крайней мере учитывающее изменившиеся обстоятельства. Литературе предстояло научиться разговаривать с разумом и чувствами читателя напрямую, поскольку прежний фундамент романа и его главный движущий механизм — собственно история — перестал быть важным конкурентным преимуществом.
гарри поттер
игра престолов
От сердца к сердцу

Говоря о литературе автофикшн, освещающей широчайший диапазон разного рода персонального опыта и травм, скептики относят популярность жанра на счет нарциссической самозацикленности писателя. Дескать, говорить о смерти родителя («Рана» Оксаны Васякиной, «Я — значит ястреб» Хелен Макдональд), о расстройстве пищевого поведения («Голод» Светланы Павловой), о ментальном нарушении («Лица» Тове Дитлевсен), о физической болезни («Руки женщин моей семьи были не для письма» Еганы Джаббаровой) или просто о прошлом своей семьи («Залив терпения» Марии Нырковой, «Памяти памяти» Марии Степановой) автора побуждает желание осуществить, так сказать, акт публичной психотерапии. Излить из своего сердца накопившиеся там переживания и тем самым исцелиться.
Подобная картина отводит читателю роль смиренную — эдакого пассивного резервуара для чужой боли и чужих чувств. Однако если бы дело и правда обстояло так, едва ли аудитория автофикшна и в России, и по всему миру была настолько велика. Это заставляет предположить, что механизм популярности жанра работает как-то иначе — не на безропотном принятии чужого, но на отождествлении его с собственным, на своеобразном «подключении» к автору и слиянии с ним.
 Оксана Васякина, Рана">
Оксана Васякина, Рана">
 Мария Ныркова, Залив терпения">
Мария Ныркова, Залив терпения">Вещи, о которых пишут автофикшн-авторы, конечно же, пережиты ими лично, но не то чтобы только и исключительно ими. Читатели тоже теряют близких, болеют, пытаются разобраться в своих корнях, и возможность слиться с тем, кто, испытав подобное, сумел облечь свои чувства в слова, позволяет ощутить себя видимым, существующим, живым. Автофикшн словно бы говорит читателю: ты не один, я тебя вижу, твои переживания реальны и имеют значение.
Отказываясь от опоры на собственно сюжет, на историю и персонажей, автофикшн по полной отрабатывает область эмоционального. Однако, как в случае с любыми сильнодействующими методами, эмпатическое объятие автора и читателя не может длиться долго, избыток эмоции утомляет и перегружает, а значит, задает роману подобного типа границы, определяет его — как правило, довольно скромный — объем, те самые 250–300 страниц, с которых мы начали наш разговор.

 Егана Джаббарова, Руки женщин моей семьи были не для письма">
Егана Джаббарова, Руки женщин моей семьи были не для письма">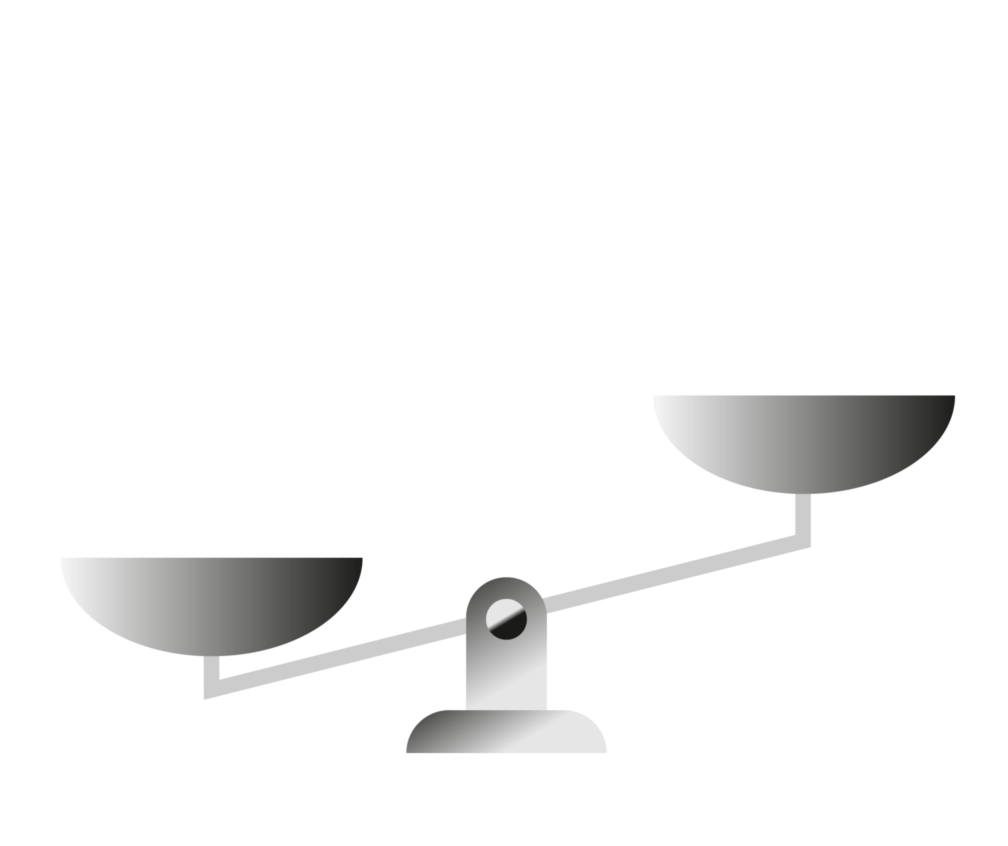

Думать головой
Если же прямой разговор с чужими чувствами писателя не привлекает (например, он не готов к той степени душевной обнаженности, которую предполагает автофикшн), у него остается другая возможность — обратиться к рассудку своего читателя, чтобы, опираясь на инструментарий художественной прозы, донести до него некоторый набор мыслей и идей.
Возможно, в последнее время вам казалось, что многие современные романы становятся слишком уж тезисными и «головными», а поддерживающие тезис конструкции — сюжет, антураж, герои — механистичными и картонными. Ваше наблюдение не лишено оснований. Так, например, главная цель романа американки Селесты Инг «Пропавшие наши сердца» — показать, что несвобода внешняя начинается с несвободы внутренней и что если сердце остается живым, никакой тоталитаристский морок не страшен. Анастасия Максимова в «Детях в гараже моего папы» сообщает читателю, что вина не равна ответственности и что, даже не будучи непосредственно виновным в чем-то нехорошем, ты должен за это отвечать. Алексей Поляринов в уже упомянутых выше «Кадаврах» говорит, что общество, не разобравшееся с исторической памятью, не имеет надежд на счастливое будущее. Список можно без труда продолжить — книг, пытающихся в первую очередь внедрить в читательскую голову набор мнений, пишется и публикуется сегодня в избытке.
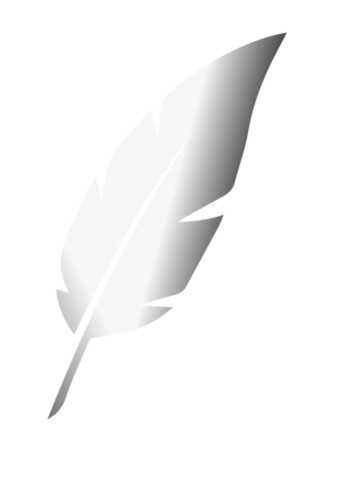

Традиция «тезисного» романа отнюдь не нова — в сущности, она отсылает нас к XVIII веку, когда просветители от Вольтера до Руссо придавали своим философским трактатам некое сходство с прозой. «Простодушный» Вольтера имел целью не столько рассказать историю честного дикаря, попадающего в современную автору Европу, сколько показать ту самую Европу и ее несовершенства сквозь призму непосредственного, почти детского восприятия. То же можно сказать и о «Кандиде» — по мере сил развлекая читателя историей путешествия своих героев по реальным и вымышленным землям, на практике Вольтер высмеивал и бичевал нравы тогдашних Франции и Пруссии.
Современный роман-трактат имеет схожую цель — методы изящной словесности для работающих в этом направлении авторов служат лишь подпоркой, металлическим каркасом для проповеди или интеллектуального эксперимента. История в такого рода книгах сугубо функциональна — она лишь носитель, призванный транслировать важные для писателя идеи. И так же, как и в случае с прямым обращением к чувству, роман-трактат не может быть длинным — мысль перегружает в той же мере, что и эмоции, и если автор не хочет, чтобы читатель удрал от него в сериал, он должен быть компактным.
Означает ли это, что традиционной, полнокровной литературе — литературе, основанной на великой истории, захватывающей человека целиком, — пришел конец? Едва ли. Даже об окончательном усыхании романа до жалких 200–300 страниц можно говорить лишь как об одной из многих тенденций — пожалуй, самой заметной, но не доминирующей. В конце концов, выпускает же Джоан Роулинг в 2023 году новый 1000-страничный роман о Корморане Страйке, который немедленно становится вторым после седьмой части «Гарри Поттера» бестселлером в карьере писательницы — какое уж тут усыхание. Однако тот факт, что литературе сегодня все чаще приходится отказываться от прямой конкуренции с другими нарративными медиа и искать собственный путь, опираясь на другие, еще не в полной мере разработанные механики и практики, вполне очевиден. Пока писателям удалось нащупать две тропинки — автофикшн, ведущий напрямую к сердцу читателя, и роман-трактат, обращающийся к его мозгу. Двигаясь по ним, литература теряет в объеме текста, но это далеко не финал. Поиски продолжаются.
03 АПРЕЛЯ 2024
0








